|
|
Гинцбург И. Я. Из прошлого (воспоминания). — Ленинград, 1924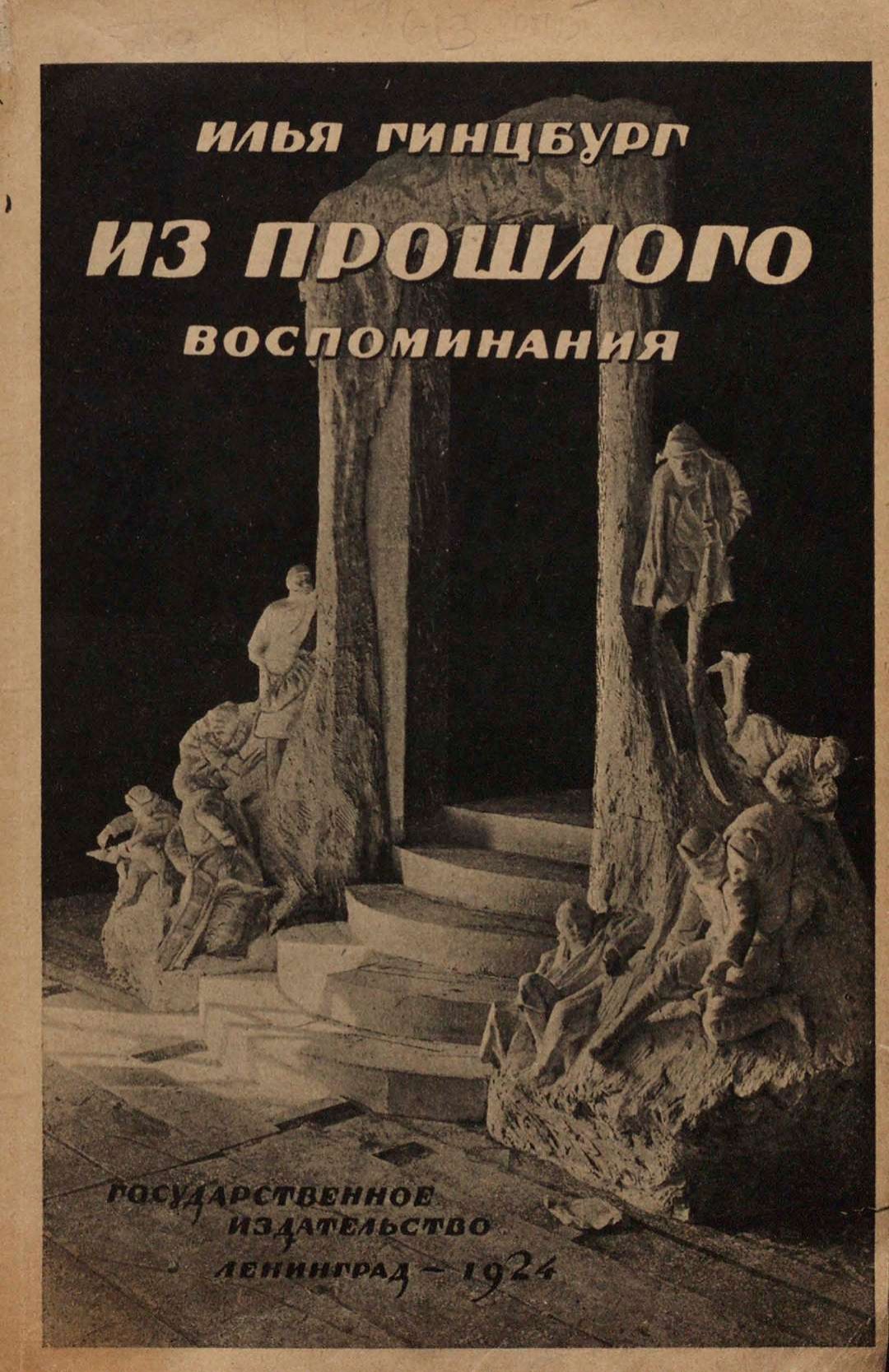 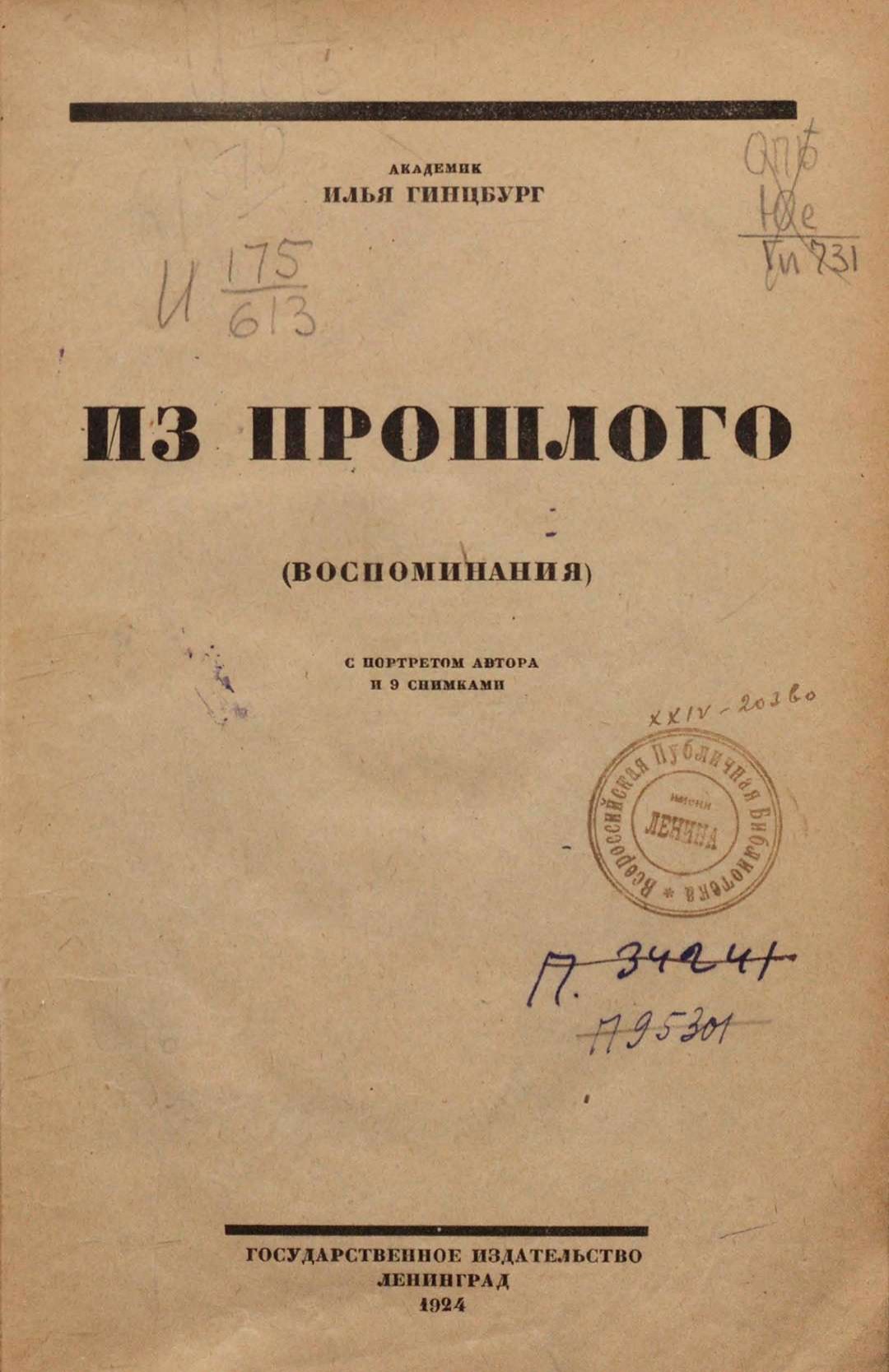 Из прошлого (воспоминания) : С портретом автора и 9 снимками / Академик Илья Гинцбург. — Ленинград : Государственное издательство, 1924. — 183 с., ил.[Предисловие]
Те из вошедших в эту книгу очерков, которые появляются в печати не впервые, значительно переработаны мною для настоящего издания. Таковы очерки: «Как я стал скульптором», «В Ясной Поляне», «Стасов у Толстого», «Смерть Антокольского» и «У Кропоткина». Очерки же «Радость жизни», «В. В. Стасов», «В. А. Серов», «Паоло Трубецкой» и «В. В. Верещагин» печатаются мною впервые.
Люди, с которыми я сталкивался на своем жизненном пути, были, в большинстве случаев, значительны сами по себе и характерны для той эпохи, в которую они жили. Это позволяет мне надеяться, что мои воспоминания имеют общественный интерес, и дает смелость предложить мою книгу вниманию русских читателей. Полагаю, что такой же интерес представляет и мой очерк автобиографического характера: «Как я стал скульптором».
Я не могу отказать себе в удовольствии принести свою искреннюю благодарность А. Н. Горлину и 3. С. Давыдову, ценными советами и указаниями которых я воспользовался для этой работы.
И. Г.
КАК Я СТАЛ СКУЛЬПТОРОМ
1.
Мне было десять лет, когда я начал вырезывать из камня разные вещицы. Камень, служивший мне для работы, был довольно твердый: у нас дома его употребляли для точения ножей. Орудием для вырезывания служил мне перочинный ножик и заостренные гвозди от подков. Гвозди эти я находил на улице и оттачивал их у нас на пороге. Помню, первой моей вещью был старинный открытый шкаф. В нем книги и другие вещи лежали в беспорядке на разных полках. Затем я сделал многоэтажный дом с черепичной крышей, трубами, окнами, балконами, воротами и всеми прочими деталями. Ничего не было упущено. Наконец, я вырезал человеческую фигуру — старого еврея, собирающего милостыню.
Не помню, что дало мне толчок к этому занятию. В родной Вильне я никогда не видал никакого художественного произведения: у евреев скульптурные изображения запрещены религией, и не только в синагоге, но и в доме набожного еврея не должно находиться изображений человека или животного. Рожки нашей люстры были всегда залеплены воском, потому что на них были изображены человеческие лица. И в городе тогда не было ни одного памятника или статуи. Единственным скульптурным произведением были известные «болваны графа Тышкевича» — так назывались кариатиды на его доме. Из камня многие молодые евреи делали печати, которым иногда придавали вид греческой колонки или тумбочки, украшенной каким-нибудь орнаментом. Но фигуры человеческой я не видал, а орнаментов я не любил. К тому же, я не заботился о том, чтобы моя работа имела какое-либо практическое применение.
Моя мать (отца уже не было в живых: он умер, когда мне было три года) очень неприязненно относилась к моей работе, в которой видела лишь отвлечение от изучения талмуда. Я тогда еще учился в хедере (еврейской школе) и оказывал такие успехи, что, несмотря на мою молодость, мне хотели разрешить заниматься самостоятельно, наравне со взрослыми, в синагоге. Как и других братьев, меня прочили в раввины и находили, что у меня недюжинные способности к талмуду.
Мое «баловство» (так называла мать мои занятая скульптурой) часто преследовали, и нередко мои работы мать выбрасывала вместе с инструментами в окно, на улицу. Это заставило меня укрываться в какое-нибудь безопасное место для занятия любимым делом. Готовую работу я охотно показывал сестрам, которые сочувственно ко мне относились и даже одобряли меня. Они втихомолку почитывали немецких классиков и другие романы и знали, что мое занятие не баловство, а искусство. Часто также похваливал мою работу и старик, резчик печатей, Гриллихес. Его сын учился медальерному искусству в академии, и потому его замечания и разговоры об искусстве имели для меня особенное значение. От него же я впервые услыхал имя Антокольского.
Случилось так, что моя мать по делам уехала в Петербург. В это время в Вильну приехал Антокольский. Это было в июне 1870 года. Старик Гриллихес прибежал сказать, что знаменитый Антокольский хочет видеть мои работы. И вот на следующий же день, причесанный и умытый, я отправился с сильнейшим биением сердца, неся в самодельной коробке свои «грехи», которые могли оказаться трофеями.
Помню, как теперь, светлый, красивый магазин резчика Гриллихеса. На обширном столе разбросано бесчисленное множество инструментов, — не то что мои жалкие гвозди, а удобные, красивые инструменты, о которых я всегда мечтал. На подоконнике красовались блестящие печатки разных цветов, предметы моего постоянного любопытства. Сам Гриллихес, белый, как патриарх, с бесконечной, длинной бородой, о которой говорили, что она была спрятана под его платьем, ибо ее конец, будто бы, достигал до пола, — сидел, углубившись в свою работу, а рядом в ним, в кресле, сидел он, мой знаменитый судья.
В моем воображении великий скульптор всегда представлялся мне почему-то человеком небольшого роста, просто одетым и добродушным. Но я увидел щегольски одетую небольшую фигуру, на плечи которой был небрежно наброшен коричневый плед, а одна рука была в перчатке. Обратил на себя мое внимание красивый, выпуклый, белый лоб, над которым подымалась шапка курчавых черных волос. Глубоко сидящие черные глаза пронзительно на меня посмотрели.
Я оробел. Лицо показалось мне суровым и строгим. Особенную суровость придавали Антокольскому крепкие, прямые волосы на бороде и на усах. Все лицо его дышало энергией, и, в то же время, некоторые черты его лица выражали какое-то недовольство.
Внимательно осмотрев мои работы, Антокольский привлек меня к себе и, стараясь поднять мою упорно опущенную голову, спросил:
— А хочешь со мной поехать в Петербург? Там будешь у меня заниматься. Хочешь?
Но, вероятно, по выражению моего лица трудно было ожидать ответа, и потому он прибавил:
— Приходи завтра с твоим старшим братом, я с ним поговорю. Кстати, принеси инструменты, которыми работаешь.
В страшном волнении, не помня себя от радости, я выбежал на улицу и влетел в дом весь сияющий и торжествующий. Долго не могли сестры добиться от меня толкового рассказа о случившемся. Рассказывая, я все всхлипывал, путал слова, а когда дошел до предложения Антокольского поехать с ним в Петербург, то разразился громкими рыданиями. Я стал всех упрекать в том, что мною, как младшим в семье, только пользуются для домашних услуг, но судьбой моей никто не поинтересуется.
Сестры не ожидали такого успеха. Не думали они, что знаменитый Антокольский одобрит мою работу. Им уже представлялось, что я в Петербурге и делаюсь знаменитым художником. Они вспомнили рассказы о художниках, которые происходили из бедных семей. Они припомнили и свою собственную жизнь: как они еще с детства мечтали об образовании; как по бедности им приходилось без посторонней помощи учиться читать и писать по-русски и по-немецки; как набросились они потом на чтение и как была недовольна мать тем, что они читают светские книги, а не религиозные. «Теперь», — думали они, — «хоть бы ему удалось достичь того, к чему он стремится».
С нетерпением дождались мы прихода брата, и тут повторилась та же сцена, только вместо одного моего бестолкового рассказа получилось три. Мы все перебивали друг друга, нападали на брата за его равнодушие к судьбе будущего художника. И на брата произвело глубокое впечатление то, что чужой человек хочет меня взять к себе и учить. Воспитанный в духе глубоко религиозном, как почти все другие мои братья (нас было пять братьев и три сестры), он готовился стать раввином: он окончил раввинское училище и слыл за хорошего талмудиста. Но в последнее время он увлекался математикой и уже мечтал о высшем образовании.
Стали совещаться и порешили немедленно написать обо всем матери и просить ее отпустить меня в Петербург.
На следующий день я пошел с братом в магазин Гриллихеса. Антокольский там нас уже ждал. Он тщательно осмотрел мои инструменты, расспрашивал, как я их делаю, и еще настойчивее стал упрашивать брата отпустить меня с ним в Петербург.
Брат ответил, что все зависит от матери, которой уже послано письмо.
Ответ от матери получился неблагоприятный: она в самых строгих выражениях запретила мне ехать в Петербург под страхом немедленной отправки домой. Мотивировала она свой отказ тем, что не может позволить сыну своего благочестивого мужа (отец мой был раввин и духовный писатель) жить в Петербурге, где порядочный еврей не в состоянии вести жизнь в духе благочестия и набожности.
Я был в отчаянии; сестры также. Брат должен был этот ответ передать Антокольскому. Слух о предложении Антокольского взять меня в Петербург и отказ матери в разрешении на это распространился среди всех наших родственников и знакомых. Все обсуждали этот вопрос; мне сочувствовали и меня жалели. Наконец, когда Антокольский объявил брату, что через три дня он уезжает и потому просит решительного ответа, мы все переполошились: боялись упустить случай. Антокольский сказал:
— Советую вам хорошенько подумать, ибо, если вы теперь не отпустите его, то потом мне не представится другого случая и возможности взять его с собой.
И вот, под давлением знакомых, а главное — сестер, брат придумал следующее: он передаст решение этого дела дедушке и совещанию его с другими набожными евреями. Это совещание, или суд, должно было иметь решающее значение для матери, ибо она обожала дедушку, который был известен во всем городе, как набожнейший и честнейший человек. К нему часто обращались за советами по разным делам, и он нередко бывал третейским судьей. Его почитали как богатые, так и бедные, как религиозные, так и свободомыслящие евреи. С другой стороны, брат слагал с себя ответственность в случае, если бы решение дедушки противоречило решению матери.
Таким образом, я снова предстал перед судом, но на этот раз еще более страшным и неумолимым. Сердце мое билось еще сильнее, ибо я был убежден, что работа моя, одобренная великим авторитетом, зависела теперь, как и моя судьба, от приговора старых людей, никогда не видавших никаких произведений искусства и по религиозным взглядам своим осуждавших скульптуру. Брат предварительно рассказал дедушке об Антокольском и о моих работах. Дедушка удивился, что мать раньше ничего ему не говорила о моих безделушках (мать боялась этим огорчить его). И вот я с трепетом показал ему свои камешки. Бабушка, вечно живая и суетливая, полюбопытствовала первая и, увидав их, всплеснула руками и воскликнула:
— Да ведь это идолы! Даже грешно смотреть! Это погано для еврейского глаза!
«Пропало мое дело», — подумал я, — «провалился я, несчастный».
Но смотрю: дедушка держит моих идолов крепко в руках. Он тщательно их рассматривает, улыбается, качает головою, гладит меня по голове, приговаривая:
— Какой ты искусник, как у тебя все точно и верно. Ничего не пропустил.
И это говорил семидесятипятилетний старец, никогда в жизни не видавший ни одного скульптурного изображения. Недаром я всегда обожал его больше, чем всех людей на свете, и неоднократно мечтал бросить всё, все шалости и работы, и сделаться таким, как он, бедным и святым.
Решение дедушки было таково: слишком важно то обстоятельство, что чужой человек хочет принять близкое участие в судьбе мальчика; вероятно, очень уж важно значение, которое он придает его работе. С другой стороны, слишком велико имя отца мальчика, слишком велики заслуги его в еврействе, чтобы на том свете он не отстаивал сына перед всякими соблазнами, чтобы везде, где бы сын его ни был, не охранял его от врага. Все с этим согласились и решили отпустить меня в Петербург.
Заручившись согласием девушки, брат передал меня Антокольскому, а матери написал обо всем происшедшем, прося поскорее вторичного ответа. Для того же, чтобы отрицательный ответ матери не мог помешать моему отъезду, он послал письмо в самый день моего отъезда, с таким расчетом, чтобы я прибыл в Петербург одновременно с письмом.
Мечта учиться скульптуре была для меня так привлекательна, что я сгорал от нетерпения поскорее уехать и последние дни плохо ел и мало спал. Мне никого и ничего не было жаль, и, никогда прежде не отлучавшийся из родного дома, я с легким сердцем расставался с родными и знакомыми, точно уезжал на кратковременную прогулку. Только когда бабушка одевала меня и дорогу, я расплакался, но то были скорее слезы радости, что сбудутся мои мечты, чем страх перед неизвестным будущим. На вокзал меня провожали все наши, и я весело простился с братьями и сестрами. Я чувствовал, что они мне завидуют, что и им хотелось бы вырваться из дому, где после смерти отца нас осталось восемь человек и где мы все терпели нужду. Мне посчастливилось, хоть я и не первый ушел из дому. Еще за много лет до того, один из моих братьев уехал без ведома матери заграницу и там устроился; он сделался лепщиком-позолотчиком. Но это был простой работник, а от меня ждали чего-то большего.
2.
По железной дороге я ехал в первый раз. Я, конечно, тотчас же устремился к окну и все время почти не отходил от него: всё смотрел на без конца бегущие картины. Я думал о том, что для того, чтобы достигнуть счастья, надо лететь за много, много верст. Как в сказке «Волшебная лампа» старик понес Аладина через моря и леса к месту счастья, так и меня мой чудный незнакомец увозил куда-то далеко-далеко. Весь день и всю ночь простоял я у окна, спать мне не хотелось, мне приятно было чувствовать, что я от чего-то убегаю.
Не помню почему, но в эту ночь Антокольский был в другом вагоне. Утром, зайдя ко мне, он меня спросил; «Помолился ты?» Я поспешил ответить «да». К этой неправде я привык: я и дома не любил молиться; даже тогда, когда я должен был стоять вместе с братьями в синагоге на молитве, я, бывало, вместо молитвы, бормотал несвязные слова, а сам в это время думал совсем о другом.
Вообще в детстве у меня не было никакой охоты соблюдать религиозные обряды. Ни страх перед богом, ни железные розги на том свете не пугали меня. И в субботу, и в праздники я часто нарушал предписания религии. Но, не чувствуя никакого влечения к соблюдению обрядов, я, однако, глубоко благоговел перед набожностью дедушки. Казалось мне, одно из двух: или быть таким цельным, как дедушка, или совсем ничего не соблюдать. Но за несколько лет до того я испытал нечто вроде поворота к религиозному мистицизму. Под влиянием рассказов в долгие зимние вечера в хедере, а иногда в синагоге о мертвецах, о чудесах, о молодых праведниках, ушедших ради спасения души из дому, я вдруг решил переменить свой образ жизни, сделаться праведником в духе обожаемого мною дедушки. Я долго носился с этой мыслью и, наконец, назначил день, в который должно было совершиться мое превращение. Но случилось так, что как раз в этот день утром приехал дядюшка и подарил мне пятачок. Желание полакомиться было очень сильно, и я решил отложить осуществление своего обета на два дня. Действительно, через два дня я уже с утра преобразился: помолился от всего сердца, громко, ничего не пропустив; стал вдруг послушным и добрым, бросил шалости и сделался таким сосредоточенным и грустным, что все домашние скоро заметили во мне эту перемену.
— Что с ним сталось? — говорили братья: — Какую-то новую шалость замыслил или напроказничал уж очень?
— Лучше сознайся, — говорили сестры: — вероятно, кого-нибудь поколотил на улице или, может быть, в шкафу чем-нибудь полакомился?
Но я боялся расспросов и разговоров и стал прятаться от всех. Мне больно было, что меня не хотят понять; а если поймут, то еще, пожалуй, больше смеяться станут. Видя, что я не отвечаю, братья стали издеваться надо мною.
— Он просто задумал в Америку бежать, — говорили они, намекая на то, что я любил слушать рассказы о путешественниках.
Скоро это дело дошло до матери.
— Я выгоню эту дурь из его головы, — сказала она.
Несколько дней продолжались эти преследования. С другой стороны, я так устал от соблюдения своего строгого режима, что не выдержал и отложил свое намерение сделаться благочестивым еще на несколько недель, а там скоро и совсем забыл о нем.
Теперь, в вагоне, усталый от бессонной ночи, я почему-то припомнил все это со всеми подробностями. Именно теперь, в этот решительный момент моей жизни, я чувствовал, что тогдашнее мое настроение было наиболее высоким и значительным. Всё же остальное в моем прошлом казалось мне ничтожным, и потому я не жалел, что порывал с ним.
Антокольский высадил меня в Петербурге на Вознесенском проспекте, у подъезда временной синагоги, где остановилась моя мать, а сам уехал к себе, дав мне свой адрес и сказав, чтобы я пришел к нему в воскресенье, вместе с матерью. Матери не было дома, но меня любезно приняли хозяева квартиры. Это были смотритель («шамес») синагоги и его жена, хорошие друзья моей матери. Они меня, запуганного и усталого, обласкали и успокоили. Но вот звонок — приходит мать. Увидав меня, она расплакалась, рассердилась, что ее не послушались и прислали меня, но потом, успокоившись, сказала:
— Сегодня канун субботы; побудешь со мною, отдохнешь, а там, в воскресенье, я отправлю тебя обратно домой.
За обедом хозяева и гости стали уговаривать мою мать оставить мена в Петербурге, а на следующий день, когда сам раввин, хорошо знавший моего покойного отца и потому пользовавшийся особенным уважением матери, подтвердил мнение всех, что можно положиться на Антокольского и что мне следует у него учиться скульптуре, мать начала колебаться и в воскресенье, в назначенный час, повезла меня к Антокольскому.
Антокольский жил тогда против академии художеств, в доме Воронина, в четвертом этаже. В его большой, но невысокой комнате, обставленной по-студенчески, мне сразу же бросилась в глаза его работа: прекрасный этюд опрокинутого стола, с которого падает скатерть. Это было сделано для задуманной им большой работы «Инквизиция». Я дотронулся пальцем до скатерти, чтобы убедиться, что она не настоящая. Очень также понравилась мне пишущая рука — небольшая скульптура из дерева.
Антокольский, показавшийся мне тут добрее и мягче, чем в Вильне, сказал матери, что берет меня на испытание и в течение недели скажет, оставляет ли он меня навсегда у себя. Пока же я должен был приходить к нему каждый день работать.
И вот начались моя каждодневные путешествия на Васильевский остров, сильно врезавшиеся мне в память. В особенности памятно мне мое первое знакомство со столицей. Все было для меня ново и необычайно; везде я останавливался и на все долго смотрел. На Вознесенском проспекте мое внимание привлекали вывески мелочных лавочек: изображения огромных фруктов, винограда, румяных яблок казались мне верхом совершенства в живописи, и я раздумывал, буду ли я когда-нибудь в состоянии так рисовать. Коровы и овцы на вывесках мясных лавок казались мне живыми. Подолгу любовался я вывесками каждой лавки и не замечал, как лавочники и мальчишки окружали меня, хохотали, что-то выкрикивали, показывая мне конец полы. Русского языка я тогда не знал и потому в недоумении смотрел на этих людей, не понимая, чего от меня хотят. В голову мне не приходило, что меня дразнят, что надо мною издеваются. У меня были тогда очень длинные волосы, и весь костюм изобличал во мне провинциального еврея. Часто мое равнодушие выводило мальчишек из терпения, и тогда меня начинали колотить и гоняться за мной. Я запутывала в моем длинном капоте и падал при громком хохоте всей улицы. Преследования прекращались, когда я достигал Синего моста.
Памятник Николаю I меня поразил, но я не понимал, почему фигура и лошадь поставлены на такую высокую тумбу. Зато уж очень курьезной показалась мне неподвижная фигура часового-гренадера, — я думал, что это тоже статуя, и подошел, чтобы рассмотреть ее поближе, но фигура вдруг зашевелилась, и я отскочил и испуге; долго не мог я прийти в себя и уже издали наблюдал за движениями этого гиганта. На Николаевском мосту я потратил, не мало времени, следя за движениями судов и пароходов, о которых раньше и понятия не имел.
Прошло несколько часов, пока я добрался до Васильевского острова. Антокольский повел меня в мастерскую. Он тогда временно занимал скульптурный класс (теперь педагогические классы), перегороженный на две части: в первой работал живописец Савицкий, а во второй — он. В классе стояли огромные гипсовые статуи. Они мне напоминали «болванов Тышкевича», и я обратил на них мало внимания: до того показались они мне мало выразительными и похожими друг на друга. Зато я был в восхищении от картины Савицкого «В госпитале»: это была первая картина, которую я видел и понял. Тут мне поправилось всё: и больной, и сердобольная мать, и солдат-отец.
Антокольский тогда только что начал «Иоанна Грозного». Он поместил меня за перегородкой, позади себя, дал мне кусок глины, гипсовый кулак и сказал: «Копируй!» Никогда раньше я не держал глины в руках; еще менее знал я, как надо обращаться со стеками. И вот, тихонько раздвинув занавес, я стал смотреть, как работает мой учитель; его смелость в обращении с глиною и стеками меня воодушевила, и я принялся за свою глину. Еще до того я сознавал важность испытания, от которого, может быть, зависела моя судьба. Но теперь, начав работать, я все забыл. Несколько часов пробежало для меня незаметно. Я бы продолжал так работать до вечера, но, отходя от работы, наткнулся на самого Антокольского: оказалось, что он стоял сзади и смотрел. Ноги у меня подкосились. «Он все видел, а я, может быть, не так лепил», подумал я, и кровь бросилась мне в голову. Но, точно угадав мои мысли, Антокольский поторопился сказать:
— Молодец! Не ожидал я, что так скоро вылепишь. Ты почти кончил. Завтра я дам тебе другое, более трудное.
«Всё решено», подумал я, и глубоко вздохнул. Я стал еще смелее работать, и через несколько дней, когда у меня была готова «Геркулесова нога», Антокольский сказал:
— Возьми свои работы и пойдем к барону Гинцбургу. Надеюсь, мне удастся для тебя что-нибудь сделать.
В богатом доме барона я был ослеплен роскошью и блеском, о которых раньше не имел никакого понятия. Я оробел, но добрый барон меня приласкал, потрепал меня по щеке и сказал:
— Уж очень ты маленький и худенький...
Когда мы распрощались и вышли на улицу, Антокольский сказал мне:
— Поздравляю тебя: теперь ты обеспечен, барон дает тебе стипендию.
Признаться, я не понял, что значит «стипендия» и для чего она.
Мать, между тем, собиралась уехать из Петербурга в пришла проститься с Антокольским. Он ей сказал, что оставляет меня у себя и, желая ее порадовать, сообщил ей о стипендии, назначенной мне бароном. Но мать, вместо благодарности, заплакала:
— Бедный мой сын, — сказала она: — он должен прибегать к милостыне.
На прощанье мать просила Антокольского следить за тем, чтобы я соблюдал религиозные обряды, ежедневно молился и читал по нескольку глав из талмуда.
Я совсем переселился к Антокольскому, а столовался у еврея-портного Сагалова, жившего в Пажеском корпусе.
3.
Началась новая и необыкновенная жизнь. Утром я у ходил в мастерскую, где копировал уже более сложные вещи, затем обедал у Сагалова, а потом проводил несколько часов у товарищей Антокольского, художников Репина и Савицкого. Жена Савицкого давала мне уроки русского языка, учила чтению и письму. Она была очень красивая, умная и любезная женщина и чрезвычайно мне нравилась. Я старался изо всех сил хорошо учиться, но много мешало мне то обстоятельство, что во время уроков всегда кто-нибудь из знакомых художников сидел и разговаривал с моей учительницей.
Я начал понимать по-русски и стал ко всему прислушиваться. Это принесло мне пользу при изучении языка, но на уроках я стал мало внимательным. Полагали, что я ничего не понимаю в разговорах окружающих, а к тому же мои рост и моя наружность внушали убеждение, что я еще ребенок; в результате, при мне не стеснялись говорить обо всем. На самом же, деле, я тогда был уже настолько развит, что меня интересовало всё, и моя мысль постоянно работала.
Раз был такой случай. На уроке чтении присутствовал Антокольский. Он рассказывал о том, как понравилась ему какая-то красавица. Я навострил уши и стал читать медленно.
— Я просто влюблен, — говорит с жаром Антокольский.
— Хотели бы на ней жениться? — спрашивает его моя наставница.
Молчание. Я прерываю чтение и жду.
— Что ж не отвечаете? — вопрошает учительница и, в то же время, стучит карандашом по моей книге, приговаривая: «Дальше!»
— Что ж не отвечаете? — в нетерпении вторю я ей.
Эффект был необычайный. Все переглянулись, рассмеялись, и с тех пор разговоры в моем присутствии велись урывками и уже не такие понятные для меня.
Вообще, моя природная любознательность находила себе обильную пищу: все было для меня ново. Казалось, что я попал на другую планету: и люди такие, каких я раньше у себя дома не видал, и интересы у этих людей другие, и образ жизни совсем другой. Ко всему я присматривался и старался во все вникать.
У Антокольского работа тогда кипела; статуя Иоанна Грозного близилась к концу. Многие стали посещать его мастерскую и с каждым днем круг его знакомых увеличивался. Он поручил мне вылепить по рисункам Солнцева барельефы на кресло Иоанна Грозного. Работа эта была для меня лестной и приятной; я ревностно работал; все видели, как я леплю, и меня хвалили. «Помогает Антокольскому», говорил служитель, когда его спрашивали, что я здесь делаю. «Это будущий Антокольский», говорили некоторые посетители. «Позвольте, Марк Матвеевич, вашего милого ученика поцеловать», говорили посетительницы.
Антокольский стал брать меня с собой к своим знакомым. Так я стал бывать у Серова. Валентина Семеновна Серова любила меня, как своего сына Валентина, с которым я проводил целые вечера в его детской. Иногда я присутствовал и на музыке в зале. Тогда у Серовых собирался весь художественный мир. Там впервые увидел я Ивана Сергеевича Тургенева, гиганта в бархатной визитке. Он своей внешностью производил на меня впечатление красивого, богатого купца. Серов-отец коротенькой своей фигурой казался мне немного смешным; он всегда носил очень широкие серые брюки и широкий пиджак; его седые, густые, мягкие волосы падали на плечи и окаймляли бритое белое лицо; черты у него были мягкие, женственные; думалось мне, что именно такое лицо должно быть у композитора. Он нередко играл еще не поставленную тогда оперу свою «Вражья сила». Все с затаенным дыханием слушали это новое произведение композитора. Атмосфера была полна благоговения к творцу и искусству, и я, не понимая музыки, все же проникался настроениями этого общества.
Иногда я захаживал к Николаю Ивановичу Ге. У него любил я рассматривать бесчисленные итальянские этюды, развешанные по всем стенам квартиры. Жгучим солнцем, каким-то огнем веяло от этих прекрасных этюдов, и при виде них меня невольно тянуло на юг. Сам Ге, высокий, красивый старик, чрезвычайно правился мне своей открытой душой, веселостью и остроумием. Частенько сиживал я и у его сыновей, Петра и Николая. Они уже учились в гимназии, но, помимо того, занимались дома ремеслами: Николай — столярным, а Петр — переплетным. С особенным любопытством я следил за их работой и завидовал им.
По воскресеньям я стал бывать у Стасовых. Тут бывали литераторы, музыканты и люди разных других профессий. Сами братья Стасовы, вне дома, жили и работали в разных сферах: один, Владимир Васильевич, служил в Публичной библиотеке и больше всего знался с художниками, литераторами и музыкантами; другой был военный, а третий — общественный деятель, имевший много знакомых в общественных кругах; четвертый был адвокатом. Все, что происходило в городе, отражалось тут: всякий приходил со своими повестями и все обсуждалось сообща. Жизнь тут кипела во всех широких и хороших проявлениях своих, и я стал более интересоваться всем окружающим. За столом я сидел обыкновенно рядом с Владимиром Васильевичем, который был центром всего общества и доминировал над всем окружающим своим гигантским ростом, громким голосом, широтою и непоколебимой стойкостью своих взглядов. Он больше всех говорил и больше всех горячился. Тогда я был еще очень робок и меня вначале поражал этот необычайный шум за столом и горячие споры. Владимир Васильевич, бывало, спорит с десятью человеками зараз и нападает на своего соседа порою так, что мне жалко становилось его противника. «Бедный», думал я, «вероятно, ему неловко, что его так отделывают, да еще при всех. Я на его месте обиделся бы». С участием смотрю на него; но противник точно угадал мои мысли. Он ко мне нагибается и на ухо говорит:
— Вы не думайте, что он сердится. Не пугайтесь его. Это добрейший человек: он мухи не обидит. Я с ним не согласен, но очень его люблю.
И, действительно, только кончился спор, как Владимир Васильевич уже добродушно смеется, шумит и острит. Он вилкой пихает мне в рот кусок мяса с своей тарелки, приговаривая: «Ешьте! Вы маленький, худенький; вам надо побольше мяса есть». Я сопротивляюсь, но он настаивает: «Ну, да ну», и я ем, а все смеются.
— Бедный мальчик, — говорит с другого конца стола добрая и сердечная невестка Стасовых, Маргарита Матвеевна, — зачем его туда посадили! Ведь Вольдемар его замучит.
Но я счастлив, что сижу близ самого центра и слышу все, о чем говорят. На другом конце стола всё группируется вокруг другого центра — Надежды Васильевны Стасовой. Она на вид совершенная противоположность своему брату: ростом маленькая, сгорбленная, близорукая, говорит тихим голосом и только изредка спорит. Но по характеру своему она больше всех походила на брата: тот же огонь таился под ее тихой, скромной оболочкой, то же широкое и светлое человеколюбие, та же беспредельная любовь к свободе и свету, то же сострадание к угнетенным и то же страстное негодование против несправедливости и фальши. Мое знакомство с этой семьей настолько связано с моим развитием (с лишком 30 лет я не переставал бывать у Стасовых), что, описывая свое прошлое, я еще не раз вернусь к ней. Но, помимо моих личных отношений, я должен сказать, что за эти 30 лет люди эти и весь их круг не отступали от своих взглядов и были носителями идей и стремлений лучшей части тогдашнего русского общества.
А тогда было время общего подъема духа у интеллигенции. Всюду царило благожелание друг к другу; идеи прогресса подхватывались и превозносились; о каком бы то ни было национальном антагонизме не могло быть и речи. У Антокольского часто собирались его товарищи-художники и подолгу спорили об искусстве и о задачах художника. Их споры бывали искренни и увлекательны. Сам хозяин — еврей — и его гости: поляк Семирадский, малоросс Репин и великоросс Максимов, — все они были добрыми товарищами. Целые вечера они просиживали вместе за скромным чайным столиком и беседовали до позднего вечера. Иногда между ними сидел вечно юный В. В. Стасов, этот истинный поклонник молодых и оригинальных талантов. Я, сидя за отдельным столом и приготовляя уроки, прислушивался к разговорам, и хотя многого еще не понимал, но все же чувствовал, что люди эти воодушевлены общим любимым делом, верят в это дело, и потому любят друг друга. И частенько в мою детскую голову приходила мысль о том, как я счастлив, что живу среди этих людей и что когда-нибудь и я сделаюсь таким же полезным (тогда, казалось мне, все верили в «полезность» искусства) и хорошим деятелем.
4.
Молодая и красивая баронесса Гинцбург, побывав как-то в мастерской Антокольского, пригласила меня к себе на обед. Эго был мой первый обед в таком богатом доме, и я не знал, как себя держать. Нечего говорить, что, воспитанный в бедной еврейской семье, я понятия не имел о так называемых хороших манерах. Этот обед остался у меня в памяти; без смеха я не могу о нем вспоминать.
Обед был парадный. К столу пошли попарно с дамами. Меня усадили между англичанкой и незнакомым господином, говорившим по-французски. Множество рюмок и роскошный сервиз смутили меня. Я чувствовал, что тут едят как-то по особенному и что мне, чтобы не попасть впросак, нужно присматриваться, как едят другие. И вот, осторожно раскладываю я толстую салфетку и, по примеру своего соседа, начинаю ложкой резать яйцо в зеленых щах. Яйцо меня не слушается; я надавливаю, и щи через край тарелки переливаются на чудную, толстую, как доска, скатерть. Я страшно смущен. Оглядываюсь — никто не смотрит. Тогда я осторожно придвигаю кусок хлеба и им прикрываю пятно. Второго блюда я не ем. Третье также меня почему-то смущает. Я голоден, ибо с утра ничего не ел. Наконец, я соблазняюсь и беру цыпленка. Пробую его резать, но от моих неумелых стараний косточка вываливается через край тарелки. Пришлось пальцами водворить се опять обратно на место. На этот раз я даю себе слово больше ничего не есть.
Мне казалось, что моя неловкость не была никем замечена. Но красивый лакей в белых перчатках, полукруглой щеткой очистив то место, где лежал мой хлеб, открыл предательское пятно от щей. Подали сладкое. Я свободно вздохнул: «Конец моим приключениям», думал я. Но баронесса заметила, что я мало ем, и по-английски что-то сказала моей соседке; та положила мне на тарелку мандарин. Присматриваюсь, кто как его чистит, и вижу, что одни рвут корку пальцами, другие режут ножом. Я выбираю первый способ, как не нуждающийся в особом орудии. Отрываю ломтик мандарина и осторожно кладу его в рот. Но вдруг, совершенно неожиданно, зернышко мандарина выскакивает у меня изо рта и падает прямо на руку соседке. От смущения я готов был провалиться сквозь землю.
На этом мои злоключения не кончились, и конец вечера был так же неудачен, как н его начало. Когда я уходил и надевал в швейцарской свое убогое, жиденькое пальто и смятый картуз, то заметил, что у дверей стоял какой-то господин, очень, как показалось мне, важный: высокий, красивый, в большой медвежьей шубе, один воротник которой мог бы меня закрыть с головы до ног. Он собирался, как видно, уходить, и, когда швейцар открыл мне дверь, я отстранился, желая дать дорогу этому важному гостю.
— Баронесса приказала вас проводить, — обращаясь ко мне, произносит эта важная и представительная персона. Всматриваюсь и вижу в ней что-то знакомое. Да это тот лакей, который за обедом взял мой хлеб со стола и открыл мое позорное пятно! Делать нечего, надо подчиниться приказу баронессы. Пропустив меня вперед, мой провожатый сложил руки крест-накрест и пошел позади меня важной, медленной походкой. Признаться, я ничего не имел против того, чтобы меня проводили: вечер был темный, а местность — конец Английской набережной — очень глухая. Я недавно только приехал в Петербург и еще боялся ходить ночью один. Но я был очень легко одет; особенно зябли у меня ноги, которые были очень скверно обуты. Стоял свирепый мороз. Будь я один, я побежал бы и этим согрел бы ноги, но тут мне неловко было удаляться от провожатого, который, как мне казалось, не в состоянии был быстро ходить из-за своей тяжелой шубы. Пришлось мне и итти шагом, и я очень страдал от холода. На Николаевском мосту к морозу прибавился еще ветер. Руки мои окоченели от холода. Я не выдержал и, обернувшись к моему провожатому, сказал:
— Можете итти домой, теперь я сам знаю дорогу, сам пойду,
— Баронесса приказала проводить вас, — произнес он, отчеканивая каждое слово, точно выучил эту фразу наизусть.
Я почувствовал страшную боль в ногах и, отбросив всякий стыд перед баронским посыльным, начал подпрыгивать, чтобы согреться. Что бы я дал тогда, чтобы избавиться от этой медвежьей услуги!
Мерным, спокойным шагом довел меня лакей до ворот моего дома, и я, не поблагодарив его, как стрела побежал по двору и по темным лестницам.
Когда Антокольский спросил меня, как я провел вечер, я ответил:
— Прекрасно! А меня провожал от баронессы лакей до ворот, — похвастался я.
— Как это мило со стороны баронессы, — сказал мой учитель; — зайду нарочно поблагодарить.
Долго стыдился я рассказывать своим знакомым об этом злополучном обеде.
5.
В январе Антокольский совершенно закончил статую Иоанна Грозного. Александр II поднялся на четвертый этаж, чтобы посмотреть ее, и приказал ее купить. Академия удостоила Антокольского звания академика. Все заговорили о статуе; мастерская весь день была полна пароду. Имя Антокольского было у всех на устах, после того как Стасов и Тургенев написали о нем хвалебные статьи. Посыпались приглашении — посетить, побывать, навестить. Антокольский редко бывал теперь дома, и мне часто случалось оставаться одному. Из многих привычек, оставшихся у меня от моей прежней жизни, была боязнь оставаться по вечерам одному в комнате. Бывало, до двух часов утра сижу я и жду возвращения Антокольского, но как только услышу звонок, тотчас гашу лампу и ложусь, притворяясь спящим. Антокольский подходит к моей кровати, смотрит, сплю ли я, и иногда меня целует. Это страшно меня трогало. Я чувствовал, что учитель действительно любит меня. Я все более и более привязывался к нему, старался во всем слушаться его, угождать ему и быть ему полезным. Наши отношения были наилучшими, и только раз вышла большая неприятность. Он вернулся ранее обыкновенного домой и спросил меня, отлучался ли я куда-нибудь из дому. Действительно, в этот вечер я уходил к Сагалову и там провел несколько часов. «Нет», отвечаю я беззастенчиво, желая порисоваться своим одиночеством и показать, что я без него ничего не предпринимаю. «А почему ты врешь!» воскликнул он, весь вспылив. На следующий день, когда Савицкая похвалила меня за успехи в русском языке, Антокольский сказал: «Да хорош-то он хорош, но у него страшный недостаток — он лжет». Все изумились, закачали головами, и мне стало так стыдно, что я решил всегда говорить ему только правду.
Работа моя по лепке приостановилась.
Антокольскому некогда было теперь смотреть за мной, да, кроме того, я не мог больше работать в мастерской, которая была и тесна, и всегда полна народу. Я стал рисовать то у Репина, то у Семирадского. Рисование давалось мне с трудом. Я очень не любил огромных гипсовых голов, — они казались мне скучными и невыразительными, и я не раз засыпал над рисунком. Огромное значение для меня имело то, что я видел, как работали талантливые, тогда уже опытные художники: Репин, Семирадский и Савицкий. Постоянно присматривался я к их бесчисленным этюдам и талантливым наброскам. Помимо академической программы, некоторые писали картины на собственную тему. Репин тогда писал «Бурлаков». Часами смотрел я на эту бесподобную и глубоко правдивую картину. Искренностью и самобытностью веяло от волжских этюдов Репина, писанных им для этой картины. Нравились мне и картины Семирадского и Ковалевского, но не будучи знаком с историей, я только восхищался их красками и мастерством их рисунка. Семирадскому и Урлаубу я позировал для их программы. Почти безотлучно находился я в верхних коридорах академии, в мастерских конкурентов, где, как монахи в кельях, работали с утра до вечера молодые труженики. Я следил за ходом работ разных художников, и мне доставляло удовольствие сравнивать их работы. Хотя я числился учеником Антокольского, но был как бы общим учеником. Как дочь полка, я был учеником всех конкурентов и был всем им известен под именем «маленький Элиас». Бывал я у многих художников, но чаще всего у Репина, тогда лучшего друга Антокольского. В то время Антокольский принялся в мастерской Репина за бюст Стасова. Я присутствовал при сеансах. Много говорили об искусстве. Стасов поднял вопрос о раскраске скульптуры, и Репин стал раскрашивать бюст Стасова. Все новое в искусстве обсуждалось, и каждый обо всем свободно высказывал свое мнение. Не только в академии, но и дома у себя, в свободные минуты, вечером все рисовали. Иногда несколько художников собирались вместе, один читал, а другие рисовали. И по праздникам всё свободное время посвящалось работе. Иногда Репин, Савицкий, Максимов и другие отправлялись на Петровский или Крестовский остров, усаживались там на берегу, на травке, и рисовали, кто лодочку на солнце, кто куст, а кто Неву с барками. И все это делалось не кое-как, а серьезно и старательно. Зависти ни у кого ни к кому не было, и всякий делал своим товарищам серьезные замечания об их работе.
До чего велико было в этой среде увлечение работой, показывает следующий курьезный случай. Захожу я однажды в мастерскую к Репину. Это было в одиннадцать часов утра. Репин стоит во фраке и белом галстуке перед начатой картиной и работает.
— Что с вами, Илья Ефимович? — говорю я: — в каком вы необыкновенном виде! Я вас таким никогда не видал.
— Да, — многозначительно кивнул головой Репин, — через час я должен итти в церковь: венчаюсь. А жалко: в час не успею нарисовать драпировку.
Да, тогда вся эта плеяда молодых художников, кто с бо́льшим, кто с меньшим талантом, верила в высокие идеалы искусства, все горячо любили свою работу, и потому все свои силы и помышления посвящали искусству.
Иногда я рисовал у И. Н. Крамского. Под его руководством я писал акварелью, но, однако, не столько сам работал, сколько смотрел, как работает этот маг и волшебник над своими изумительными портретами. Он, случалось, при мне начинал и так, шутя, в веселом разговоре, почти без всяких помарок, верно схватывал сходство и рисунок. Никто с такой легкостью, казалось мне, не работал. Художники относились к нему с особенным уважением; его почитали за его выдающийся ум и за его товарищеское отношение. Небольшого роста, но довольно крепкого сложения, он казался особенно интересным в беседах и спорах. Его выразительные глаза и выпуклый лоб говорила о его проницательном, живом уме. Говорил он очень убежденно, но выражался обдуманно, взвешивая слова, как будто, боялся, что не то скажет.
Но ближе всего и выше всего была мне тогда работа учителя моего Антокольского. В особенности не мог я оторваться от его «Инквизиции». Целыми днями рассматривал я эту удивительно талантливую вещь. И вот, прошло уже около полвека с тех пор, а я все еще не могу забыть того глубокого впечатления, какое производила эта из ряду вон выходящая работа на всех видевших ее. И как превратна бывает иногда судьба художественного творения! Эта гениальная работа была заброшена самим художником, она не была закончена, и почти все ее забыли. А в этой работе, кажется мне, заключаются и глубокая мысль, и оригинальность исполнения. Горельеф изображает подвал, со старинными каменными сводами. Случилось что-то ужасное... Опрокинут стол; скатерть, тарелки, подсвечники, — всё на полу. В паническом страхе все бегут, прячутся в огромную печь, некоторые захватили с собою молитвенники. Тут толпятся и старики, и женщины с детьми, и молодые. Остались только двое... Один — убежденный и закаленный в вере старик: на него точно столбняк нашел. Другой, помоложе, смотрит в испуге туда, откуда слышны шаги. По круглой каменной лестнице спускается жирный инквизитор; рядом с ним идет привратник, освещающий факелом ступеньки; дальше видны воины с алебардами и цепями. Ужас, испытываемый при созерцании этой драмы, соединяется с наслаждением от талантливого исполнения этой работы.
6.
В конце января 1872 года Антокольский заболел горлом. Знаменитый врач С. П. Боткин нашел болезнь серьезной и даже опасной. Меня очень огорчала болезнь любимого человека. Я ухаживал за ним, как только мог, помогал ставить компрессы и ночью плохо спал: всё прислушивался к его дыханию. Болезнь обострилась, и Боткин велел скорее ехать в Италию. Антокольский торопился с отъездом, и вот пришлось подумать и обо мне: куда меня девать. Но, видно, ему трудно было расстаться со мной. Он привык ко мне, да и я уж очень был привязан к нему. Однажды вечером, незадолго до отъезда, когда у Антокольского собрались товарищи-художники, он заговорил о своей поездке и о том, что ему жалко оставлять меня здесь. Он показал им, между прочим, мою новую работу, маленький набросок из воска. Это была сценка из еврейской жизни: еврейка совершает накануне субботы обряд освящения свечей, а муж ее и дети собираются в синагогу. «Что скажете об этом?» спрашивает Антокольский товарищей. «А вот что мы скажем: ты за эту работу, Марк, возьми его с собой в Италию», ответили все в один голос. Точно такого ответа хотел, повидимому, и сам Антокольский, и через несколько дней мы вместе уехали.
Подобно тому как восемь месяцев назад я перенесен был в столицу и увидел новую жизнь и новых людей, так и теперь, после трехдневного путешествия, я попал в новую страну, от зимы к лету, от снега к роскошной, цветущей природе, и увидел новые, чудные места. Венеция показалась мне волшебным городом. Я припоминал рассказы своей сестры о Венеции, и все, что напоминало эти рассказы, производило на меня огромное впечатление. Старые дома, стоящие в воде, казались мне овеянными какой-то тайной: в каждом доме совершается убийство или разыгрывается какая-нибудь другая тяжелая драма. Сидя в гондоле, я в страхе прижался к Антокольскому, боясь, что гондольер нарочно опрокинет нас. Очень таинственными казались мне мостики. На площади, думалось мне, стоят наемные убийцы. Об истории, об эпохе я тогда понятия не имел. Единственным моим мерилом для этого нового мира были книги моей сестры: в них я верил. После рассказов сестры, я целыми днями мечтал и фантазировал так, что, увидав дотом всё в действительности, я только припоминал образы, созданные раньше моим воображением. Но больше всего меня взволновало посещение палаццо дожей и склепов инквизиции. Темные подземные ходы, освещенные факелом, внушали мне страх: мне казалось, что тут еще совсем недавно пытали людей. Ничего, что я не понимал речи провожатого, — я ясно себе всё представлял : вот углубление — значит, тут замуровали человека; там отверстие — значит, оттуда бросали жертву в воду; а вот кусок дерева — остаток орудия пытки. Весь день я был потом под тяжелым впечатлением кошмара и ночью плохо спал.
Зато Флоренция произвела на меня впечатление совершенно противоположного свойства: тут всё живут люди добрые, точно ангелы. По рассказам сестры, это — город пышных процессий, город Рафаэлей и добрых покровителей Медичисов. Мне правилось здесь всё: и здания, и сады, и церкви. Здесь мы нашли несколько русских художников. Часто бывали мы у Каменского. Некоторые его работы мне чрезвычайно нравились; я мечтал о таком же скульптурном жанре. Его «Мальчик-скульптор» показался мне прекрасным, но «Первый шаг» меня не удовлетворил. Бывали мы и в мастерской Забелло; он тогда лепил превосходную статую Герцена. Во Флоренции мы прожили несколько дней.
Ко многому, слышанному мною ранее о Риме, прибавилось теперь еще то, что город этот отнят королем у папы и что это случилось за месяц до нашего приезда. По дороге я слышал рассказы о том, как войска Виктора-Эманнуила вошли в Рим и там стреляли. Представлял я себе город в развалинах, но когда мы приехали, я напрасно искал следов войны и скоро совсем забыл, кому город принадлежит. В общем, Рим почему-то мало мне понравился. Больше всего меня поразил Колизей и некоторые другие развалины древних сооружений. Собора св. Петра и Ватикана я не понял, — наш Эрмитаж казался мне красивее.
В Риме было большое общество русских. С ними мы проводили все вечера, вместе обедали и затем долго сиживала в Café Greco. Сидим мы там однажды целой компанией художников. Какой-то торговец-итальянец предлагает купить у него бумагу и конверты. «Смотри, Элиас», — говорит Антокольский: — «Это непременно еврей; даже похож на нашего польского еврея». Боткин спрашивает торговца, кто он, но тот по-итальянски отвечает, что он правоверный католик. «Это неправда», — говорит Боткин: — «Он из боязни, чтобы его не дразнили, скрывает, что он еврей». Тогда Антокольский обращается к торговцу и говорит по древне-еврейски : «Иегудо опойхи» (я — еврей). Торговец весь просиял и сказал: «Махар Швогат» (завтра Пятидесятница). Меня очень обрадовало это, и Антокольский предложил мне провести завтрашний день у этих евреев. Я охотно согласился, и еврей за некоторую плату свез меня в гетто.
Там меня водили к раввину — какому-то именитому еврею; везде меня угощали, но не могли со мной объясняться, и только к вечеру достали переводчика-немца. Меня поразила страшная бедность в гетто: такая же точно, как в Вильне. Что касается религиозных обрядов и молитв в синагоге, то они ничем не отличались от наших.
Наступила невыносимая жара; я уставал и стал часто отказываться от прогулок и от посещения музеев. Антокольский уходил на весь день, оставляя меня одного в квартире, и я тогда углублялся в чтение книг. Скоро я начал скучать по нашим петербургским знакомым, а главное — следовало подумать и о моем образовании. В Италии мне трудно было оставаться, и решено было отправить меня учиться в Петербург. Но как? Языков я не знал, и ехать одному было немыслимо. Но вот, кстати, получается известие из Флоренции, что там проездом из Швейцарии остановилась одна дама, которая едет в Петербург. Я немедленно отправился во Флоренцию, и художник Каменский познакомил меня с этой дамой. Это была еще очень молодая, на вид лет восемнадцати, вдова русского посла в Швейцарии Мордвинова, урожденная кн. Оболенская (впоследствии она вышла замуж за С. П. Боткина). Ее сопровождала другая дама постарше, компаньонка ее. Они чрезвычайно мне понравились своей простотой и любезностью, и я, не стесняясь тем, что плохо говорил по-русски, всю дорогу рассказывал им, как я жил в провинции, как учился в еврейской школе и как начал работать. Но больше всего распространялся я о своих петербургских знакомых, какие они добрые и как все меня любят. «Чудесные люди в Петербурге», говорил я: «Все такие добрые и любезные».— «Ну нет, не все», возразила мне молодая, но уже несколько разочарованная вдова. «Поживете там, увидите, сколько злых; да и злых-то, вообще, неизмеримо больше, чем добрых».
Подъезжая к Вильне, моя попутчица сказала: «Здесь будут ждать меня родственники, у которых я побуду несколько дней. Вот мой петербургский адрес; приходите ко мне гуда: буду вам давать уроки».
Когда поезд остановился, к нам в купэ вошло много военных; все засуетились; послышался чей-то голос: «Посторонитесь! Генерал-губернатор идет!» Меня оттиснули в угол. Я испугался и, в общей суматохе не простившись с моими любезными спутницами, схватил свой чемоданчик, выскочил на улицу и поехал к бабушке. Потом я узнал, что моя попутчица долго меня разыскивала, что губернатор — ее дядюшка и что посылали денщика к моей бабушке, которую, конечно, не нашли, ибо она жила на еврейской улице, чуть ли не на чердаке и, как водилось тогда у бедных евреев, по фамилии не называлась.
Кроме бабушки, у меня в Вильне тогда никого из родных не оказалось. Мать с братьями и сестрами после смерти дедушки переехали в другой город. Но я охотно жил у бабушки, вспоминал свою прежнюю жизнь.
Перед моим отъездом в Петербург бабушка свела меня на могилы деда и отца. Войдя в часовню деда, бабушка нагнулась близко к могиле и громко сказала: «Здравствуй, Гирш! Пришла твоя жена Ривка и привела твоего внука Элие». Взяв меня за руку, она наклонила мою голову к могиле и затем стала рассказывать, обращаясь к своему покойному мужу, о своих делах, обо всем, что она делает и о чем думает. Перед уходом она обратилась к другим могилам и сказала: «Соседи! Может быть, мой муж ушел или занят. Скажите ему, что была его жена Ривка, привела внука» и т. д. Эта же сцена повторилась на могиле моего отца; только тут она обратилась ко мне с упреком: «Что же ты не плачешь? Поплачь!» Но я стоял, как вкопанный, моргал глазами, хотел искусственно вызвать слезы, ущипнул себе пребольно палец, но слезы все не шли. Мне стало досадно. Своего покойного отца я совсем не знал, но дедушку помнил и любил. Я вспомнил на кладбище рассказ о его смерти. Это было так необыкновенно. С утра он объявил, что умирает, сам переоделся в чистое белье, велел зажечь свечи и лег. Затем он позвал детей и внуков и стал всех благословлять. Бабушка хлопотала, суетилась, убирала комнату, точно готовилась к празднику Иом-Кипур¹). Похороны были многолюдны, и в этот день бабушка обедала у нас. Собрав остатки кушанья, она сказала: «Это я снесу Гиршу». И дома она долго не могла привыкнуть к одиночеству : все готовила обед на двоих. Для нее дедушка не мог умереть: с лишком 60 лет они жили вместе. Разговоры бабушки на кладбище показались мне немного смешными, но на меня тогда уже произвела глубокое впечатление эта искренняя вера в бессмертие.
____________
¹) Судный день.
7.
В Петербург я вернулся летом, когда все еще были на дачах. Я пожалел о том, что так скоро уехал из Италии, и принялся за учение. Меня учила грамоте дочь В. В. Стасова, Софья Владимировна Сербина. Русский язык я все еще плохо знал, и потому о гимназии нечего было и думать. Кроме того, по своему возрасту я уже не мог поступить в низший класс.
Мне шел тринадцатый год, а я еще грамоты как следует не знал. В хедере я только обучался библии и талмуду: ничему другому там не учили, да и некому было учить: меламед (учитель), это — набожный, честный, еврей, занимающийся преподаванием только по бедности, ни на что другое неспособный. У евреев меламед — синоним непрактичности и забитости. Никакого метода, никакой программы преподавания нет, и каждый преподает как знает и умеет. Мой последний учитель был старик, сгорбленный, подслеповатый, очень добрый и мягкосердечный. Его единственною страстью был нюхательный табак, которым был всегда набит его распухший нос. Он занимал пол-комнаты у портного; рядом жил сапожник, а в маленькой передней — бондарь. У всех были многочисленные семьи, но шум ребятишек, а также стук бондаря нам нисколько не мешали. Мы читали талмуд громко, нараспев, так что наши голоса слышны были на другой улице. Нас, учеников, было шестеро, все дети бедных евреев, которые с трудом платили меламеду за учение. Моя мать в последние два года по бедности совсем не платила за меня, но реббе (учитель) мною дорожил: я так хорошо учился, что служил примером для других, и иногда реббе поручал мне объяснять товарищам трудные места из талмуда. Шалуны мы были отчаянные. Иногда, пользуясь близорукостью реббе, мы разбегались и прятались в одной из бричек, стоявших во дворе. Реббе бежит по двору, ищет нас, заглядывает то в одну, то в другую бричку; мы его видим, но, затаив дыхание, не даем знать о себе, а когда, наконец, он нас накрывает, мы бежим от него врассыпную в разные стороны. Первого попавшегося ему под руку он тащит за ухо к себе. Я редко попадался ему, потому что быстро бегал и всегда во-время его замечал. В зимние холодные вечера, в то время, когда реббе после обеда спал, мы все забирались на печь и рассказывали друг другу страшные сказки. Иногда мы присаживались к слепой старухе, матери портного, и она нам рассказывала о еврейских праведниках и чудесах, которые они творили. Хотя я и хорошо учился, но талмуд меня не занимал: кроме анекдотов, в нем иногда встречающихся, все было совершенно чуждо моему детскому мышлению.
Зато дома я очень увлекался рассказами сестры, которыми я жил и о которых постоянно думал. Особенной мастерицей рассказывать была вторая сестра моя, Двойра. Еврейские девочки набожных и, тем более, бедных родителей находились в то время в особенных условиях: их не обучали ничему тому, чему учили мальчиков. Для них не обязательны молитвы в синагоге и многие другие обрядности. Вообще, еврейки в отношении религиозных обрядов считаются такими же неправоспособными, как и мальчики, не достигшие тринадцатилетнего возраста. Оттого еврейские девочки имеют большую, чем мальчики, возможность обучаться светским наукам, т.-е. читать и писать на других языках. Страсть их к учению иногда так велика, что некоторые дети не останавливаются ни перед какими трудностями, лишь бы научиться грамоте. Моя сестра Берта зимою, в мороз, в одном платьице бегала тайком от матери к подруге-гимназистке и там училась грамоте. Она также брала уроки русского языка у старого спившегося отставного полковника, сжалившегося над жаждущей знания девочкой. Таким образом, мои сестры рано научились читать и писать по-немецки и по-русски. Они проглатывали неимоверное количество книг, читали тайком, чтобы не вызвать неудовольствия матери, и иногда просиживали за книгой всю ночь напролет. Читали всё без разбора, всё, что можно было достать в убогой библиотеке, где книги приобретали на пуд: тут были старые немецкие романы конца XVIII века, «Три мушкетера», «Тайны двора», а рядом — Шиллер, Гёте, Вальтер-Скотт. В свободное время, вечером, сестра иногда с увлечением рассказывала содержание прочитанного. Я всегда умолял, чтобы меня допускали к слушанию этих рассказов, охотно исполнял все поручения сестры, во всем слушался ее, лишь бы не быть лишенным этого удовольствия. Всем существом своим я проникался этими вымыслами и целыми днями о них думал и ими бредил. Таким образом, с одной стороны, чуждые моему пониманию и моим детским интересам трактаты талмуда развивали мою память и изощряли мой ум, с другой стороны — увлекательные рассказы о чужих людях и неведомых странах действовали на мою фантазию и развивали во мне мечтательность. Практических же знаний я никаких тогда не получал, и потому мне так поздно пришлось приняться за настоящую грамоту.
8.
В Петербурге я поступил в частный пансион англичанина Гирса. Плата за учение была там высокая, и учились там дети богатых родителей, но всё дети избалованные, ничему не выучившиеся дома. Из-за плохого знания русского языка меня приняли только в приготовительный класс, но уже через два месяца перевели в первый. Учителя в пансионе были неплохие, и я охотно учился, но много терпел от товарищей, которые меня преследовали за мое еврейское происхождение, — бросали в мои густые волосы перья, смеялись над моим произношением, хотя мои товарищи англичане не лучше меня произносили русские слова. Во время рекреаций меня иногда окружали и прижимали к стене; одни держали меня за рука, другие за голову, а третьи совали мне в рот крест, приговаривая: «Целуй!»
Я задавался вопросом: за что это меня так мучают? Куда девались те добрые люди, которые меня зимой так ласкали? Знали бы все тут, с какими людьми я знаком... Знали бы, что я художник, что я счастливее их всех. Но сказать этого я не мог: не поверят, да и не поймут. В особенности доставалось мне от учеников старшего класса. Это были взрослые мальчики, отчаянные шалуны, которым не повезло в разных других учебных заведениях, и здесь для них была последняя возможность подготовиться к поступлению в кадетский корпус. Бывало, поймают меня и начинают дразнить: «Это ты распял Христа». И так пристают, что я кричу: «Да, я распял!» — «Бей его!» кричат товарищи. Я вскакиваю на стол, со стола на скамейку, обегаю весь класс и ловко ускользаю от моих преследователей. Но, наконец, меня ловят за ногу и немилосердно бьют. Случалось, что я возвращался домой с синяками на лице. Раз директор случайно зашел в класс в то время, как я, стоя на столе, отмахивался от моих преследователей линейкой. Начался строжайший допрос. Товарищей своих я не выдал и сказал, что это была только игра. С тех пор многие оставили меня в покое.
В пансионе я учился только год; дальше там оставаться не имело для меня смысла. Во-первых, слишком дорого стоило учение, а во-вторых, это учебное заведение, по окончании его мною, не дало бы мне никаких прав. Мне советовали поступить в казенное заведение и там кончить курс. «Надо сперва быть образованным человеком», — говорили мне все мои хорошие знакомые. Антокольский тогда писал мне из Италии: «Я постоянно виню себя в том, что не учился, постоянно чувствую неудобство от того, что не получил систематического образования. Ты не должен повторить мою ошибку, и хотя в академии для поступления требуются четыре класса, но ты кончай весь гимназический курс. Кто образован, тот сознательнее работает. Если у тебя способности есть, ты их и через несколько лет не потеряешь».
Как было мне не слушаться таких советов, и, позанявшись серьезно целое лето (меня учила Екатерина Алексеевна Мордвинова), я приготовился к поступлению в З-й класс и осенью попал во 2-е реальное училище. Оно было только что основано; туда трудно было попасть, но у меня было рекомендательное письмо к директору Рихтеру, человеку в высшей степени педантичному, педагогу в самом узком смысле этого слова.
«Вы хотите поступить в казенное заведение и не знаете правил», сердито сказал директор, рассматривая мои документы.
«Так прошение подавать нельзя. Вы пишете: «Желал поступить...» Не вы желаете поступить, а вас определяют. Где ваши родители?» спрашивает будущий мой начальник, наклонив голову в сторону и вытянув губы вперед. «У меня их нет», отвечаю я робко, не понимая своей вины. «А заступающие их место?» — «Не знаю». — «В таком случае, я не могу вас принять. Впрочем, приходите завтра с опекуном; я с ним поговорю», сказал директор и отвернулся от меня.
Нашелся благодетель, который написал, что он желает, чтобы я поступил в училище, и тогда меня приняли. Я был счастлив: исполнится то, к чему я стремился, о чем мечтал. Учиться я очень хотел, потому что был мальчиком любознательным и способным.
После распущенности в пансионе, здесь, в реальном училище, поражали порядок и дисциплина. Целые дни тратились на культивирование порядка и форм послушания. Бо́льшая часть урока уходила на рассматривание дневников, на инструктирование учеников, как записывать уроки и на определение обязанностей ученика.
«Это что за дружба!» заметил в первый же день директор, увидев, что я, гуляя с товарищем, положил ему руку на плечо: «Идите ровно и ведите себя прилично! Да где ваш товарищ по скамейке? С ним вы должны постоянно гулять». — «Где ваш лист пропускной бумаги?» спрашивает на другой день наставник, рассматривая мой дневник. «Иванову одолжил; он свой забыл». — «Нельзя передавать. Я другой раз отмечу, что у вас его нет». — «Можно Петрову хрестоматию дать, он еще не купил?» — «Эти беспорядок; вы не имеете права свою книгу одолжать». — «Кто хочет?» кричит во время отдыха простодушный мальчик, предлагая остатки своего завтрака. «Это что такое!» негодует инспектор, внезапно зайдя в класс: «У всякого должен быть свой завтрак. Если вы сыты, можете остатки завтрака отдать внизу швейцару». — «Дежурный! Отчего вы не смотрите за порядком? Иванов шепчется со Степановым». — «Кто вскрикнул? вас обидели? зачем вы не жалуетесь? Я спрашиваю, он вас ударил? Вы молчите. Я запишу вас обоих».
С одной стороны, я был рад, что товарищи меня здесь не дразнили, a о преследовании не могло быть и речи. Всякое движение, всякое слово, сказанное товарищу, подмечали и всё находилось под бдительным оком надзирателя. Но зато здесь чувствовалось полное одиночество и тоскливость. Все были заняты собою, всякий жил под страхом, не забыл ли он о какой-нибудь обязанности, исполнил ли он все предписания. Учителя были в таком же положении. Они боялись директора, и их не столько занимал урок по существу, сколько распорядок и внешние рамки урока.
Началась для меня пора настоящего учения. Но не успел я ознакомиться с интересующими меня предметами, как уже начал томиться и тосковать. Всё преподавалось без всякой связи, в таких дозах и так сухо, что скоро, вместо того, чтобы учиться для удовлетворения своей любознательности, я стал автоматически «приготовлять уроки», зубрить и уже так продолжал заниматься до конца курса.
Соблюдение ненужных формальностей и мелочей внушалось нам постоянно не только во время уроков, но и во всякое другое время; во время отдыха, во время гимнастики и гулянья преследовалась одна цель: вытравить индивидуальность мальчика и, взамен того, вселить в него какой-то мертвый шаблон. В особенности несносным было мне нелепое требование «точных» ответов. Так, например: я бегу по лестнице и внизу наталкиваюсь на самого директора. «Что ты сейчас, голубчик, делал?» вопрошает страшный судия. «Шел по лестнице». — «Надо сказать: спускался». — «Спускался». — «Нет, не спускался, а бежал». — «Бежал». — «А что надо делать?» — «Ходить». — «Нет, спускаться». — «Спускаться». И вот подобные вопросы и ответы постоянно слышались во всех коридорах и классах, а иногда, в экстренных случаях, и в кабинете самого директора.
Тот же метод практиковался и преподавателями на уроках: не позволялось передавать свободно, своими словами, то, что излагалось в учебнике, и часто бывало, что ясный ответ ученика браковали, рекомендуя вместо него ходульные слова. Но все-таки многие учителя сглаживали и уменьшали ту нелепость и вздорность, которыми наполнены были учебники, обязательные для всех учащихся. В учебнике географии Смирнова мы охотно заучивали наизусть всякий курьезный вздор и преподносили его учителю, — это нас забавляло. Город Прага: «знаменит мостом святого Непомука. Этот священник на одной исповеди не хотел выдать важной тайны». Неаполь: «взгляни на Неаполь и умри» — и больше ничего. Брек (в Голландии): «знаменит тем, что там хвосты коров привязывают к стойлу, чтобы не пачкать пол» — больше ничего. Венеция: «город; вместо улиц — каналы, вместо карет — гондолы» и т. д. Там, где надо было охарактеризовать местность, народность или сделать какое-нибудь обобщение, мы заучивали наизусть целые фразы, не понимая их смысла.
История (учебник Белярминова) была и того хуже. У нас составилось убеждение, что все, что напечатано крупным шрифтом, обязательно для заучивания, но не интересно. Гораздо более интересовало нас то, что было напечатано мелким шрифтом; но по лености мы ограничивались одним крупным шрифтом. Некоторые анекдоты из нашего учебника истории не уступали «привязыванию хвостов к стойлу». История человечества напоминала нам порядки нашего училища: подобно тому как мы попарно отправлялись на гимнастику, так и народы шли на войну.
Преподаватель истории, старый филолог, высокий, полный, изящно одетый во всегда новый вицмундир, бритый, с круглыми, женственными чертами лица, напоминал римского патриция. Медленно, ровно, улыбаясь, он рассказывал нам о жизни древних народов, персов, греков и римлян такие вещи, которые вызывали в классе изумление, и мы часто с недоумением переглядывались. Азиатский властелин угощает, например, своего гостя, другого властелина, мясным блюдом. «Вкусно?» спрашивает хозяин. «Да», отвечает гость. «Это я зажарил твоего единственного сына», говорит хозяин. «Конечно, это совершено из мести», прибавляет, равнодушно улыбаясь, учитель. — Консул в римском сенате показывает фрукты, вывезенные им из Карфагена, и говорит сенаторам : «Неужели мы потерпим такую страну возле Рима?». — «Это послужило причиной разрушения Карфагена», объясняет учитель серьезным тоном и велит запомнить год. — «Право на острие моего меча», «Горе побежденным», «Pollice verso», «Пришел, увидел, победил», «Лавры Фемистокла не дают мне спать» — такими фразами и анекдотами был переполнен каждый урок истории. Учитель точно забавлял нас, хотя он не мог не замечать эффекта, производимого на нас этими лаконическими фразами, ибо после каждого урока я и товарищи мои были всегда в возбужденном состоянии. Мне, воспитанному в провинциальном еврейском городе к страхе перед убийством, в ненависти к насилию, прошлое великих народов представлялось необычайным, тщетно ожидал я от учителя выражения негодования, осуждения или хотя бы объяснения всех этих ужасных поступков. Преподносившиеся нам нашим учителем исторические эпизоды взвинчивали наши нервы, и многие мои товарищи, на вид флегматичные, до неузнаваемости менялись после урока истории; глаза, я помню, у многих горели особенно возбужденно. «Я — Юлий Цезарь», кричит маленький, тщедушный мальчик, становясь на стол и отмахиваясь от товарищей линейкой. «Пришел, увидел, победил», кричит другой — огромный детина, ленивый и тупой, ошеломив товарища ударом сумки по голове. «Ребята, пойдемте на второй класс, разобьем его!» кричит третий. «Бей по руке!» визжит очень нервный, болезненный мальчик, изображая из себя Горация Коклеса. «Я — Муций Сцевола», орет другой, выпячивая свою жалкую грудь. «Умирая, приветствую тебя», говорит мечтательный мальчик, ложась на пол и изображая собою умирающего гладиатора. «Всех вздую, несчастная, жалкая чернь!» кричит в исступлении мальчик с оттопыренными ушами. «Плебей, что тебе нужно? хлеба и зрелищ?» наступая на меня, угрожает кулаками старший в классе ученик.
Иногда наш директор и его помощник, немец-инспектор, проходя мимо класса и наталкиваясь на подобные сцены, делали вид, будто они их не замечают. В таких случаях директор, бывало, берет под руку инспектора и уводит его в коридор; оба шепчутся и улыбаются. «Будущие граждане», заметил как-то довольный инспектор. И я чувствовал, что эти наши выходки если не поощряются открыто, то считаются, по крайней мере, не вредными. Мы «усвоили себе предмет», возбудивший в нас те чувства, которые начальство хотело нам внушить. Я понял, что такая солидарность класса одобрялась более, чем солидарность на почве товарищеской дружбы.
Средней истории я совсем не понимал: здесь уже почему-то нет полководцев, нет героев; семь, тридцать, сто лет народы, бедствуя, дерутся, чтобы предоставить корону тому, кого не знают. Новая же история совершенно сбила меня с толку. Почему, после всех военных опустошений, появились всевозможные открытия и изобретения? Почему короли покровительствуют наукам и искусствам и сами неохотно воюют, — не так, как прежде?
Когда я окончил реальное училище, представление о прошлом человечества было у меня самое плачевное. О народах, как они жили и живут, чем они жили и живут, я меньше знал, чем о растениях и животных; о России я знал меньше, чем о Греции. Я знал много о военачальниках, о законодателях, о королях и их любимцах; хронология, это — перечисление именно их поступков и деяний. Выходило, что народ — «чернь» — или воевал или бунтовал; в промежутках между войнами парод спал и ничего не делал. О государстве я имел представление, что чем чаще оно затевает победоносные войны, тем оно богаче и могущественнее, тем больше оно почитается. «Шведы», говорит мои товарищ, первый ученик в классе: «ведь это жалкий народ: что о нем слышно? ничего. Вот уже сколько столетий не воюют; точно спят». — «Война, это — гроза», говорит нам учитель русского языка: «она освежает, после нее все опять расцветает». — «Грудь с грудью, плечо к плечу», с пафосом декламирует наш учитель немецкого языка. «Чего церемониться с турками, — раздавить их!» говорит наш учитель географии.
Впоследствии я одно время завидовал смелости суждений некоторых моих товарищей, вместе со мной окончивших училище: они везде в истории искали аналогий и всему находили оправдание и объяснение. Я же ни в чем не мог разобраться. На самые простые вопросы мне отвечали: «Да это в Греции уже было, такой-то философ проповедывал; нового ничего тут нет». — «Смотря с какой стороны рассматривать эту меру», говорит студент, бывший мой товарищ по училищу: «если с точки зрения государственной, то это необходимо, да, пожалуй, и справедливо». — И вот все мое мировоззрение раздваивается, распадается на две «точки зрения»: на точку зрения естественного чувства справедливости и на точку зрения так называемую государственную, к которой привела меня официальная школа и которая «всем понятна». С точки зрения государственной я узнал, что завоевание, покорение, лишение прав и преимуществ одних приносит пользу другим, улучшает жизнь большинства людей и создает культуру. С этой же государственной точки зрения я узнал, что я — ничто, ибо я — еврей, а государство — русское; ибо хозяева — русские, а я — инородец. Однако, я — русский подданный, но религии я все же другой, и потому мои братья и сестры не могут жить в Петербурге, не могут со мною видеться; однако, кончив высшую государственную школу, они приобретают «право жительства». «Право жительства» имеют евреи-купцы, заплатившие государству за гильдию, а также евреи, принявшие христианство. — «К чему меня всему этому учили?» думал я часто с досадой, чувствуя разлад между всем тем, что я видел и инстинктивно сознавал, и тем, что мне внушали в школе.
Не лучше обстояло дело и с преподаванием в старших классах русского языка и словесности — этих самых важных предметов; в особенности выделялось рутинное преподавание синтаксиса и логики. Не зная и не чувствуя русского языка, я бы должен был хуже всех учиться, но на самом деле, благодаря тому, что методы преподавания имели сходство со знакомым мне схоластическим талмудом, я получал лучшие баллы, чем другие. Еще когда дело шло о правописании и этимологии, кое-какая польза получалась. Но чем больше мы усваивали катехизис слова, именуемый синтаксисом, тем хуже понимали мы истинный дух языка.
Когда я окончил училище, то долго не мог свободно и легко излагать свои мысли на бумаге. Знание синтаксиса сковывало мои мысли и уродовало их. Простые письма я писал с трудом. Я пишу товарищу: «Пришлите мне книгу, которую я вчера забыл у вас: она мне нужна», — и переделываю: «Нуждаясь в книге, которую я вчера у вас забыл»...
Запомнился мне один случай, когда преподаватель словесности Николенко вызвал меня:
«Читайте «Украинскую ночь». Я вспыхнул от радости: как раз накануне, товарищ читал мне это вслух. Три раза мы перечитывали эту поэтическую вещь. От восторга я долго не мог заснуть. Вот покажу я товарищам, как это надо читать; пусть насладятся! «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее»... начинаю я с восторгом и упоением. «Стойте!» кричит учитель, стуча карандашом по, кафедре: «Куда бежите? вы точно поэт», ухмыляясь говорит он, и от этих слов мне почему-то становится стыдно.
Впрочем, случалось, что личная инициатива учителя вносила иногда живую струю в это мертвое царство схоластики и рутины, но это делалось келейно, ибо вряд ли соответствовало видам начальства. В. И. Срезневский, преподававший нам русский язык в младших классах, иногда спрашивал нас, какие книги читаем мы дома, и просил некоторых из нас изложить вкратце прочитанное. Учитель естественной истории также оживлял свой предмет рассказами о живой природе. Обхождение же учителей с учениками было всегда безучастное, холодное, хотя и не злое. Но было одно печальное исключение — кажется, единственный пример в Петербурге: это — учитель географии Владимирский. Рыжий, высокий, плечистый; при разговоре он мигал и закатывал глаза вверх, ноздри у него раздувались, и он втягивал в них воздух, точно обнюхивал ученика, чтобы все у него выведать. Он иногда на уроке таскал учеников за уши и пребольно трепал их по щеке. Меня он вызывал к доске не иначе, как «жид, поди сюда!» и, показывая на карту, спрашивал: «Где жиды живут? Что, теплый народец!» Товарищ мой, другой еврей, возмутился этим и пожаловался отцу, а тот директору. Но через два месяца несчастный ученик должен был выйти из училища, ибо он получал круглые нули. Любопытно, что этот учитель, наводивший страх на весь класс своею грубостью, был в большом фаворе у директора. Узнав, что я леплю, он заставил меня делать лепные карты. Я все уроки забросил и работал только для него. Карты навсегда оставлялись в училище; я, правда, получал за них награды, но «предметы», и географию в особенности, меньше всего знал.
9.
Безучастно относясь к занятиям в училище, я тем сильнее удовлетворял дома свою любознательность чтением. В книгах я искал не только сведений научных, но хотелось мне этим путем примирить некоторые противоречия, которые меня тогда мучили. В особенности хотелось мне разобраться в вопросе, почему существует такое разноречие в обращении со мной как с евреем. С одной стороны, Владимирский с его грубыми выходками, с другой — мои русские хорошие знакомые, очень образованные и толерантные люди. Я начал знакомиться по книгам с другими религиозными учениями, прочел евангелие, прочел весь коран и историю евреев. Все эти религиозные и национальные вопросы бродили у меня в голове несколько лет и, в конце концов, создали такой хаос понятий, что я должен был их оставить, не узнав ничего существенного. В одном только я убедился тогда же: что Владимирские и их дети совершенно невежественны в вопросах религии и национальности и что по инстинктам своим они сходны с теми лавочниками, которые на Вознесенском проспекте показывали мне «свиное ухо», или с теми шалунами в пансионе, которые совали мне крест в рот.
Кончил я реальное училище, сдал 22 экзамена, устных и письменных. Я знал наизусть какие-то параграфы, правила, формулы и числа; все это бродило у меня в голове без связи, без всякой нужды. Зато я получил аттестат, дававший мне «права». Теперь я мог поступить в академию, куда так стремился, для чего потратил столько лет и приобрел столько «знаний».
Во время моего нахождения в училище я скульптуру совсем забросил, да и некогда мне было ею заниматься. Рисование, которое нам преподавали в реальном училище, мало подвинуло меня вперед. Правда, мне давали рисовать вещи и вне программы; учитель всегда требовал чистого исполнения и штриховки, и за это я получал награды и был даже освобожден от платы. От мира художников я тоже отстал за это время: многие разъехались, а к другим некогда было ходить.
Воскресные мои посещения Стасовых были единственным моим отдыхом и развлечением. Там я слышал разговоры о том, что происходило в столь интересовавших мена художественных кругах, слушал часто музыку и чтение новых литературных произведений. Иногда, после обеда, Надежда Васильевна Стасова садилась возле меня и начинала мена расспрашивать, как я живу, что поделываю, не нуждаюсь ли в чем-нибудь, не притесняют ли меня как еврея. При этом она сама рассказывала, сколько горя ей приходилось наблюдать, какую приезжающие в Петербург учиться еврейки терпят нужду и с каким трудом они поступают в учебные заведения.
В то время моя сестра Берта была уже в Петербурге. После моего отъезда из Вильны, двое из нашей семьи последовали моему примеру и уехали учиться: старший брат, который раньше так хлопотал о моем отъезде, самоучкой в два года приготовился в последний класс гимназии, через год сдал все экзамены и поступил в Петербурге в Институт Путей Сообщения; сестра поступила в Петербурге в женскую гимназию. У нее не было средств к существованию, и добрая Надежда Васильевна поселила ее в доме «дешевых квартир».
Разговоры с Надеждой Васильевной всегда доставляли мне большую отраду. Она затрагивала те стороны моей жизни, о которых с другими я стеснялся говорить. Владимир Васильевич Стасов расспрашивал меня, как я учусь, что читаю, и давал мне книги для чтения на всю педелю. Я засиживался у Стасовых всегда очень поздно.
Иногда я захаживал также и к А. В. Прахову. Он стоял тогда во главе журнала «Пчела». У него бывало всегда шумное общество, всё люди разных профессий: бывали профессора, художники, студенты и люди, совсем мне не известные. Скульптор Микешин, выделявшийся своей представительной фигурой, импонировал также всем своими красивыми речами. Все его слушали с подобострастием. «Это гениальный художник, будущность России», говорили некоторые студенты. Часто Прахов читал свои статьи об искусстве. Много разговоров и споров бывало по поводу многочисленных полемических вопросов, которым пресса уделяла тогда не мало места. Иногда А. Ф. Кони, также бывавший у Прахова, увлекательно рассказывал, и все слушали его с восторгом. Сам Прахов, обладая способностями к рисованию, затевал часто изготовление рисунков для его лекций или для «Пчелы», и многие принимали участие в этой общей работе. Молодые и старые, — все чувствовали себя здесь хорошо, всем здесь было уютно и весело.
10.
Итак, окончив реальное училище и получив аттестат, я о своей радости написал Антокольскому, находившемуся тогда в Париже. Это было в 1878 году. В это время в Париже была всемирная выставка. Антокольский получил médaille d’honneur, орден и большие заказы. Он был счастлив; вспомнил обо мне и послал мне деньги, чтобы я приехал в Париж повидаться с ним и выставку посмотреть. Я — в восторге, готовлюсь к отъезду, но выходит задержка с паспортом: не достает документа о приписке в призывному участку. Мне советуют съездить в Гродно, откуда были все мои бумаги, там приписаться и там же взять заграничный паспорт.
В Гродне заезжаю к моему дядюшке и от него узнаю, что все мои документы были в свое время сфабрикованы им же, что он, состоя кем-то при еврейской общине, при всяком удобном и неудобном случае, из расположения к нам, устраивал наши дела. Мое метрическое свидетельство затерялось еще в детстве, и когда мне надо было поступить в училище, то дядя прислал мне нечто, заменяющее метрическое свидетельство. Когда же я достиг призывного возраста и надо было приписаться к призывному участку — дядя стал сбавлять мне года, и чем старше я становился, тем моложе значился в книгах. Эти сведения меня очень опечалили. Я пробовал без дядюшки хлопотать в городской думе и в полицейском участке, но со мною так грубо обращалась, что я опять прибегнул к этому же дядюшке. Тут я впервые непосредственно столкнулся с нравами тогдашних провинциальных учреждений. Мне больно было видеть, как дядюшка низкопоклонничает перед мелкими чинушами. Не стесняясь, в присутствии всех, он давал им взятки медными пятаками.
По существовавшим правилам, возраст еврея, у которого не было достоверного документа о рождении, определялся по наружному виду полицейским приставом. И вот, усталый от всех хлопот, убитый, прихожу в участок. Пристав:
— Стой тут! Это тебе, жид, надо возраст определить? Сколько тебе лет? — уставив иа меня красные глаза, вопрошает начальство.
— Девятнадцать, — отвечаю я робко.
— Неправда. Ишь глазища какие! Тебе двадцать один год.
Я пробую протестовать, говорю, что так мать сказала.
— Что знает твоя мать! Можешь уходить, — говорит сердито пристав, и велит помощнику писать: 21 год.
Оскорбленный и опечаленный вышел я на улицу. «Почему это так унижают меня? Какое обращение! Ведь я кончил реальное училище, находился между хорошими людьми. Неужели меня как еврея всегда будут ругать и не пускать на порог?»
Последствия постановления пристава были печальны. Во-первых, принимая во внимание, что я оказался 21 года, меня привлекли к суду за то, что я до того, как мне исполнился 21 год, не приписался к призывному участку. Судили меня, впрочем, не строго: я заплатил штрафу всего один рубль. Затем, выдав мне свидетельство о приписке, пристав мне сообщил, так как мне 21 год (по его же определению), то он не выдаст мне свидетельства для заграничного паспорта. Это поразило меня, как удар грома. Из-за этого паспорта я приехал, из-за него терпел столько унижений и неприятностей. Я был в отчаянии, но пристав был неумолим. Видно, горе мое уж очень было велико, если письмоводитель канцелярии обратился ко мне с советом:
— Охота вам хлопотать! Достаньте себе маленький паспорт и поезжайте с богом.
— Какой маленький паспорт? — спрашиваю я, обрадовавшись, что есть надежда.
— Чудак вы, — отвечает чиновник при общем смехе всей канцелярии, — точно вы не знаете, что можно достать у местных евреев паспорт за пять рублей. Оно дешевле, да и охота вам к нам шляться.
Посоветовали мне также пойти к губернатору, но там в канцелярии мне сказали, что дело с выдачей паспорта затянется на несколько месяцев, пока не получится разрешение от министра; но можно устроить и раньше, тогда это будет стоить на 10 рублей больше.
Мне все это так надоело, я был так измучен физически и морально, что бросил все, написал Антокольскому, что не могу приехать, а сам вернулся в Петербург, где я все-таки чувствовал себя под защитой моих добрых друзей. Но история с паспортом была только началом целого ряда неприятностей, и зимой этого же года началась настоящая моя одиссея по отбыванию воинской повинности. Историю эту со всеми подробностями я расскажу потом.
11.
В Петербурге я скоро забыл и неудавшееся заграничное путешествие, и гродненские неприятности. Мне предстояло держать экзамен в академию; но я не испытывал тех волнений, которым обыкновенно бывают подвержены поступающие в специальные учебные заведения. Академию я уже знал раньше, мне были знакомы все классы, коридоры, служителя, я знал даже некоторых профессоров. Рисовал я недурно, и на экзамене мой рисунок оказался одним из лучших. Главное, что меня привлекало, это — скульптурный класс, и, как только было объявлено начало занятий, я устремился туда рано утром. Все ученики были уже в сборе и ждали профессора. Пока же мы рассматривали бюсты и статуи, которые, впрочем, мне и до того были знакомы. Служитель, солдат Илья, много лет проведший в этом классе сторожем, объяснял нам названия бюстов и статуй. «Вот это — Люцифер», сказал он, шепелявя и подмигивая одним подслеповатым глазом. «Это — Аполлон с ящерицей, а там — с луком. Вот Антиной; не надо его путать с Бахом: у того на голове кочан, ананас». Так он называл все статуи, словно упоминал своих бывших товарищей по полку. Конечно, большинство названий было нам чуждо; некоторые не знали даже, имена ли это исторические или мифологические. Были новички, которые впервые видели статуи. «Посмотри, — говорит длинный, худой сибиряк, в русской рубашке и высоких сапогах, обращаясь к горбатенькому земляку: «Вот — Херкулес. Какой должно быть был дурак набитый! Говорят, он жену свою поколачивал». — «А кто эта мамка с кокошником?» спрашивает другой, указывая на Юнону. Останавливаемся перед Лаокооном: «Вот здорово!» говорит горбатенький: «Это, пожалуй, самая лучшая группа». — «Вот уж не попал», возражает старенький ученик, с порядочной лысиной (он уже лет шесть занимается в скульптурном классе): «Эта группа относится ко времени упадка. Вишь какие мускулы: как мешки; не то что у Аполлона». — «А что это, господа», говорит новичок, указывая на молодого Аполлона: «женщина или мужчина?» Все хохочут.
Вошел профессор, красивый старик фон-Бокк. Все его окружили и дружно отвесили поклон. «Ну, что, пришли работать?» пробормотал он тихо и угрюмо, окинув нас общим взглядом: «Выбирайте себе голову, какую хотите, и сделайте барельеф». Ждали мы каких-нибудь указаний, советов, навострили уши, чтобы услышать какое-нибудь наставление, не произнесет ли он речь, но он, переваливаясь с ноги на ногу, что-то еще сквозь зубы сказал, пожелал нам успеха и ушел. Тогда мы обратились к тому старенькому ученику, который так важно говорил об упадке в «Лаокооне», и попросили его посоветовать нам, что лепить. «Начните по порядку», сказал он уверенно, основываясь на своем долголетнем опыте: «Сперва голову «Анатомии», потом профиль Антиноя; Гомера труднее, а Лаокоона еще труднее». — «А можно лепить Дискобола» спрашиваю я. — «Вишь чего захотел!» возразил он сердито: «Вот полепите-ка, как я, три раза Германика с фаса и два раза спинку, пять раз Аполлона, да научитесь наизусть лепить следочки и кисточки, и тогда можете приступить, пожалуй, и к группе».
Пришел глинщик, натурщик Дмитрий. Он 40 лет стоял на натуре и знал всех профессоров и художников. Стал он нам рассказывать, как встарину бывали строги, как какой-то профессор любил одного ученика, а другого не любил, и как нелюбимцу велел поступить в дворники; как другой профессор настаивал на том, чтобы его ученику дали медаль, как ученик ничего не умел сделать и как профессор перед экзаменом проработал всю ночь за него. Затем Дмитрий перешел на себя, рассказал, как он стоит на натуре, не шевелясь, два часа, без отдыха, и в это время спит. Но скоро он заговорил об охоте: он был страстный охотник, даже наружностью напоминал тургеневского Ермолая. Мы испугались длинных охотничьих рассказов и поспешили разойтись.
Кое-как закусив в плохой кухмистерской, находившейся по 1-й линии, в подвале, мы в 4 часа были опять в академии. Занятий еще не было, но мы все собрались в темном коридоре и дожидались открытия класса вечернего рисования. До 5 часов еще было далеко, но надо было стоять в очереди: кто становился ближе к двери, тот раньше всех мог попасть в класс и выбрать себе лучшее место. И вот в темноте мы целой толпой осаждаем дверь. Каждый стоит с длинной трубой ватманской бумаги и с пучком угольков; кто стоит, прислонившись к двери, кто у стены, а кто наваливается на товарища. Кто-то рассказывает анекдоты; все смеются. Иногда слышны брань и ругательства. Народ прибывает, теснота ужасная, просто лежат друг на друге. Слышны шаги в коридоре. «Это «генерал» идет», говорит тот, кто ближе стоит к наружной двери. Показывается высокая, сухощавая фигура вахтера Яковлева, или, как ученики его называли, «самого начальника». Николаевский солдат из кантонистов, лысый, с рыжими бакенами и усами, Яковлев смешил нас своим строгим начальственным видом и своей важной походкой. Его боялись: поговаривали, что он обо всем докладывает инспектору Черкасову. Однако, он не был неподкупен и кое-кому протежировал. При его появлении все еще плотнее стиснули друг друга и налегли на дверь. «Ну, баловники, посторонитесь!» говорит строго вахтер-фельдфебель. Кто-то ударяет его по голове бумагой. «Черкасову скажу, мы вам зададим! Вот не отопру, стойте тут!» Но дверь он все-таки отпирает. Тут, как солдаты крепость, мы приступом берем дверь, врываемся толпой в класс, бежим по скамьям, расположенным амфитеатром; устремляемся через скамьи, пробираемся под скамьями, все ищут места, откуда модель, бюст или статуя лучше освещаются и кажутся красивее. Через несколько минут все уже заняли места, и только опоздавшие бродят по классу и меняют оставшиеся незанятыми плохие места.
Шум и хаос сразу утихают, как только мы принимаемся рисовать. Тут водворяется такая тишина, что, несмотря на большое скопление людей (около 100 человек работает в одном классе), слышен только скрип угольков и шум тряпок, стирающих уголь. Иногда слышен звонкий голос инспектора, академика Черкасова.
Если Яковлев смешил нас своей строгостью, то инспектор иной раз этой же напускной строгостью нас пугал. «Нельзя-с!» раскричится, бывало, этот художник-чиновник доброго старого времени: «Что вы, господа, не знаете, что ли? Вы ученики еще, а не профессоры. Не позволю!» Но ученик ходит за ним и с покорностью продолжает просить. Тогда, не отворачиваясь, он сердито говорит: «Ну, позволяю, но это в последний раз!» Это был тип, вполне современный вахтеру Яковлеву: из художников, но напоминавший кантониста, высокий, с длинными нафабренными усами, всегда деятельный и любивший всяческие строгости. Кричал он не только на служащих и учеников, но иногда и на профессоров. Человек же он в сущности был добрый, но ограниченный, а художник — добросовестный, но бездарный.
От страшной жары, от ламп и от дыхания множества грудей воздух в классе делается удушливым и жара — нестерпимой; но все до того увлечены рисованием, что никто не чувствует ни жары ни духоты. Время летит, и два часа проходят незаметно. Звонок, возвещающий конец рисования, вызывает общее сожаление. Все нехотя вкладывают рисунки в папки и, лениво отирая с лица обильный пот, выходят в холодный, свежий коридор; выходят все мокрые, красные, с блестящими глазами и с взъерошенными волосами.
Вечерние классы редко кто пропускал. Бывало, больные, голодные приходили мы рисовать, до того увлекались мы тогда рисованием. Мой квартирохозяин, больной и пожилой уже человек и отец семейства, служил в штабе. Жалованье получал он маленькое и, для увеличения его, брал работу на дом, но дома не мог работать, потому что аккуратно посещал вечерние классы в академии. Эта любовь его к рисованию препятствовала повышению его по службе, и он бедствовал. Впоследствии я узнал, что одно время он сильно голодал; но вечерние занятия рисованием в академии поддерживали и ободряли его. Рисунок ему очень удавался, он же уверял, будто удачными бывали у него только те рисунки, над которыми он работал, будучи голоден. Служитель при классе указал нам однажды на тихого ученика, который смотрел на свой рисунок, как влюбленный; он по окончании классов позже всех оставался, собирал корки грязного хлеба, которыми мы стирали рисунки, и съедал их. За хорошие рисунки ученикам выдавали серебряные медали, а награжденные серебряными медалями допускались к конкурсу на золотую медаль. Но, главное, всех побуждало к усиленной работе совершенно бескорыстное соревнование.
12.
Многие из нас рисовали очень хорошо, но в рисовании мы успевали не столько благодаря указаниям молчаливых и малодаровитых профессоров, которым ученики мало верили и которых мало уважали, сколько благодаря советам самих товарищей. Словом, учились сами собою. Совсем другое было в скульптурном классе. Тут нас, скульпторов, было всего человек 8—10. Все мы еще плохо работали и друг у друга нам нечего было позаимствовать; от профессоров же, приходивших через день, мы узнавали лишь некоторые мелочи и несущественные детали, касающиеся рисунка, — собственно же лепке, т. е. как лепить и чем, нас не учили. Правда, свойства барельефа таковы, что рисунок и перспектива играют в нем важную роль, но и в круглых вещах у нас в академии применялся тогда такой метод преподавания, который скорее убивал истинное чувство скульптуры, а не развивал его. Так, для сравнения форм, профессор всегда советовал нам вертеть и модель и копию и тем постоянно проверять наружный контур, исходя из той теории, что как линия есть сумма точек, так круглая поверхность есть сумма линий. По этому способу ученик приучался, копируя, видеть только линии, а не чувствовать форму, и оттого лепка выходила сухая, бессознательная, а, главное, форма ее запечатлевалась сама в памяти ученика. Вследствие этого, работая в вечерних рисовальных классах по два часа в день пять раз в неделю, я гораздо более успевал в технике рисования (скоро я перешел в фигурный и натурный класс), чем в скульптуре, несмотря на то, что в скульптурном классе я работал ежедневно от 9 до 2, почти без отдыха. И в то время как в рисовании работа увлекала меня с начала и до конца, в лепке меня интересовало только начало, когда я делал общий набросок, но потом, гоняясь за линией и рисунком, я «зарабатывался», и скоро работа совсем надоедала мне; я ждал случая начать новую. Работал я не хуже других и считался успевающим и прилежным. Но не я один, а все мы в скульптурном классе относительно мало успевали в технике. Все лепили вяло, и только в работах тех, кто дома лепил с натуры без всякого руководства, как будто проявлялись жизненность и некоторая свежесть. Но домашние работы не поощрялись нашими профессорами. Помню, я принес однажды показать свою работу с натуры. Профессор так надменно отнесся к этой работе, с такой насмешкой указал на ошибки (тут кисточка мала, там следок не на месте, а о самой работе по существу — ни слова), что мне стыдно стало перед товарищами. «Вот что», — добавил профессор, — «лучше не показывайте мне домашних работ. Что вы дома работаете, это ваше дело. Сперва научитесь здесь копировать антики, а потом делайте, что хотите».
Да, «потом»... Но это «потом» продолжается у меня уже около шести лет. Еще до реального училища очень хотелось мне вылепить некоторые сценки из еврейской жизни, которая в то время была мне еще так близка. Задумал я вылепить сценки — в хедере, в синагоге, на кладбище; но всё было некогда, и притом у меня не было той обстановки, которая необходима, для жанриста: в Петербурге трудно было найти еврейские характерные типы. «Потом» я многое из еврейской жизни позабыл. Я окунулся в новую жизнь, сблизился с другими людьми. Будучи в душе жанристом, я захотел брать сюжеты из этой новой обстановки. И вот, только что стал я привыкать к жизни русских людей, как опять — новая жизнь, новая обстановка: я попал в среду неизвестных мне древних греков, с утра до вечера находился среди статуй богов и философов, о которых прежде понятия не имел, очутился в чужом мне мире, и как я ни старался им проникнуться, читал мифологию и историю, часами смотрел на статуи, — все никак не мог настроить себя, чтобы переживать то, что переживали греки, и изображать их жизнь в художественно-правдивых сценах. От жизни евреев к жизни не-евреев я мог еще перейти; как растение, я мог быть пересажен на новую почву. Но от живого к отжившему, от реальной почвы к далекому небу я не мог сделать скачка. Я всё больше уходил от самого себя; мне оставалось лишь одно: углубляться в автоматическое изучение форм, в механическое копирование Ахиллесов и Аполлонов и изучать быт и жизнь народа, жившего несколько тысяч лет тому назад, — вместо того, чтобы сперва научиться вернее видеть и изображать находившееся здесь же вокруг меня.
В сущности, в академии была та же система, что и в средней школе: те же Агамемноны, Менелаи, Цезари, те же повелители и полководцы, храбрые и величественные, и та же несчастная чернь и низкопоклоннический парод. По части техники, вместо сухого этимологического разбора в реальном училище, здесь была анатомия, вместо синтаксиса — композиция. «Где у вас будет коленка?» спрашивает профессор, указывая на вылепленную мною лежащую фигуру: «Отнимите одну руку плачущей фигуры; откиньте ее назад — это даст просвет в композиции и заполнит фон». — «Поверните эту фигуру лицом в сторону». — «Но тогда она не туда смотрит», робко возражаю я. «Это ничего», отвечает опытный профессор: «нарисуйте с другой стороны собачку, тогда фигура будет на нее смотреть».
В старших классах я лепил с голых натурщиков, но я не должен был руководствоваться правдой и натурой. «Он у вас похож; видно, что это Иван с его худыми ногами», говорит с упреком профессор. Все дело учения состояло в изображении какого-то красивого мужского тела, которого, кроме гипсов, я нигде не видал. Молодой профессор сплошь и рядом браковал натурщиков, злился, что природа не так их создала. «Тьфу, дурак! На обеих ногах стоит! Иван, ты, вероятно, много каши ешь, что у тебя живот такой большой», делает профессор выговор натурщику.
Три-пять-восемь лет рисуют и лепят натурщиков в классах, и мне начинает представляться, что рисовать, лепить и писать красками можно научиться только на обнаженном теле и что лишь обнаженное тело развивает технику и дает понятие о пропорции и размерах. Мой товарищ вылепил старуху, но сперва, по правилам, вылепил он ее голую и потом никак не мог ее одеть — все молодая выходила. У моих знакомых я увидел группу: три старика сидели на скамейке, — я узнал Полонского, Фета и Толстого. «А почему они голые?» спросил я художника. «Я еще не успел одеть их», ответил он. Однако, они голыми так и остались.
История искусств напоминала в академии всемирную историю, которую нам преподавали в реальном училище: Периклы, Медичи, Людовики, — все заботятся об искусстве. Только благодаря меценатам-покровителям процветает искусство. Словно сам народ, без войн и без торжественных выходов меценатов, не мог проявить свой национальный гений и никогда ничего не делал.
Для развития творческого духа, т. е. для развития того, что менее всего поддается руководительству, я исполнял различные задачи исторического характера, но взгляды на исторические события я должен был проводить по установленному шаблону. Евангельские сюжеты я должен был трактовать по шаблону эпохи Возрождения. Мария Магдалина непременно с обнаженной грудью, полная, с чудесными волосами, с кокетливыми жестами изящных рук, а сам Христос — прекрасного телосложения, безукоризненный красавец, с самодовольным лицом — грациозно ходит по водам и летает по небесам. Жизнь современная, торчащая перед глазами моими, была тогда, когда я учился, изгнана из академии совершенно.
Когда я кончил академию, то со мною некоторое время происходило нечто подобное тому, что случилось по окончании курса в средней школе: я впал в какое-то оцепенение и долго не мог прийти в себя от всего того, чем был начинен. Чтобы я ни начинал лепить, я видел перед собою лишь анатомию и композицию, но не видел того, что было перед глазами. И так же, как воспитание в средней школе привило мне сбивчивые понятия о людях и о государстве, так и эстетические каноны академии лишь запутали мои представления о природе творчества и задачах искусства. Своим же выходом впоследствии на собственную дорогу я обязан не академии, а, главным образом, трем обстоятельствам моей последующей жизни: наблюдениям над детьми простых, бедных родителей, — детьми, которые в течение многих лет служили мне моделями для моих детских групп; затем — моим частым поездкам заграницу и, наконец, моему близкому знакомству с замечательными русскими людьми, в особенности с В. В. Стасовым, Л. Н. Толстым и П. А. Кропоткиным. Благодаря этим обстоятельствам, мое развитие приняло, наконец, естественное направление, и многое из того, что было прежде затуманено, потом прояснилось мне.
Некоторые мои товарищи скоро, однако, свыклись с новой обстановкой и стали, иногда довольно удачно, делать эскизы на темы из мифологии и истории. Правда, возможно, что у них были природные способности к исторической скульптуре, между тем как меня влекло к жанру. «А может быть, я просто неспособен», часто думалось мне: «Может быть, все просто ошиблись во мне; но тогда отчего все меня так расхваливали, отчего носились со мною и находили, что мои эскизы из еврейской жизни что-то обещают? Неужели все это была лишь шутка?»
В это время, терзаясь подобными сомнениями, я наткнулся на следующий эпизод.
В одном богатом доме я познакомился с инженером-евреем. «А, вы в академии учитесь! Может быть, вы сможете мне сказать, что сталось с мальчиком-скульптором, о котором лет шесть тому назад много говорили. Его привез сюда Антокольский. Говорили, что этот мальчик — будущая знаменитость. И вот с тех пор он точно в воду канул. Что с ним стало?». Этот вопрос как раз соответствовал моему внутреннему состоянию, когда я начал сомневаться в самом себе, и я с злорадством ответил: «Да этот мальчик был я; меня привез Антокольский, и вот теперь...» — «Не может быть!» удивленно воскликнул разочарованный инженер. Мне тогда доставило какое-то мучительное удовольствие это разочарование во мне: инженер этот, небось, сам был одним из тех, которые, не зная меня, разносили обо мне чудеса и небылицы, — вот теперь получай за это награду. Инженер стушевался.
Доставалось мне и от некоторых старых знакомых, видавших меня у Ренина и у Антокольского. «А вы все еще в академии? Однако, давненько занимаетесь». Все это (да и мои внутренние сомнения) так подействовало на меня, что я потерял энергию и веру в академию, о которой раньше так мечтал. Вот почему я с особенной чуткостью стал прислушиваться к тому, что происходило в художественном мире вне академии, и с особенным интересом стал следить, как некоторые талантливые художники, у которых я раньше бывал и учился, сплотились и, во имя свободы и самостоятельности творчества, образовали товарищество.
13.
В это время я получил из гродненского воинского присутствия предписание немедленно приехать для отбывания воинской повинности. Хотя в академии я был уже в натурном классе, но, чтобы получить отсрочку, надо было иметь малую серебряную медаль. Поговаривали, что некоторые получали эту медаль раньше времени, когда подходил срок военной службы. Надо было хлопотать, просить, и канцелярия приходила иногда на помощь юношам, если за них хлопотали. Впрочем, так только рассказывали; я же ничего не предпринимал и решился как-нибудь самостоятельно справиться с этим делом. Одновременно с предписанием начальства, я получил письмо и от дядюшки: он настоятельно советовал не приезжать в Гродно: «Если приедешь, то хромого, слепого — тебя возьмут, ибо в Гродно детки самих депутатов (по производству набора) разбежались, и не хватает положенного числа рекрутов». Итак, меня требовали в Гродно. Но так как там евреи уклонялись от воинском повинности, то и мне не следовало туда приезжать.
Я, правда, находился в несколько ином положении, чем другие мои единоверцы, скученные в провинции: русский язык я отчасти знал, русских полюбил и с ними сблизился, но все-таки старался избавиться от воинской повинности. И понятно почему: бросить на несколько лет любимое дело искусства, носить тяжеловесное ружье на своем слабом, покатом плече, есть пищу, которую мой желудок не переваривает, жить в атмосфере, которую мои легкие не переносят, — это была печальная перспектива. Но после того, что я уже претерпел однажды в Гродно, после того, что написал мне дядя, я решился, если и служить, то только не в провинции. А этого я мог достигнуть службой вольноопределяющимся, что давало право выбора места службы и проживания на частной квартире, а также возможность иметь свою, не казарменную пищу. И вот, когда я получил из Гродно бумагу с требованием приехать для отбывания воинской повинности, я немедленно стал хлопотать о том, чтобы остаться служить в Петербурге. В гвардию, конечно, меня не принимают; армейских полков только два, но в Новочеркасском евреям отказывают. Иду в единственный пехотный резервный батальон. Полковой командир сердито читает мою рекомендацию из академии. «Что такое конференц-секретарь?» спрашивает он. Я объясняю. «А где эта академия художеств находится? Чем вы там занимаетесь?». И, разузнав все, полковник говорит: «Все-таки не могу вас принять». Рассказываю я о своей беде знакомому, у которого в это время был генерал Новицкий. «Я охотно вам это устрою», сказал любезно генерал: «Только надену ордена и съезжу к командиру; посмотрим, как он вас не примет».
На следующий день, когда я явился к командиру, он уже менее сердито сказал: «Зачем вы беспокоили генерала? Я вас принимаю. Но знайте, чтобы у меня художеством не заниматься! Вы будете у меня жить в общей казарме». И более тихим голосом прибавил: «Пойдите в канцелярию; там вам скажут, какие бумаги подать». В канцелярии меня окружают дежурные офицеры. Молоденький, красивый брюнет меня спрашивает: «Вы какой художник? Портреты делаете?» — «А меня можно снять?» спрашивает другой, толстый, рыжий поручик. «Самое удобное мое лицо», говорит третий: «У меня усов нет». Однако, по моему делу они отослали меня к главному письмоводителю. Это был унтер-офицер, маленький, сгорбленный, на вид очень скромный, но с хитрыми, бегающими глазами. «Поздравляю вас, радуюсь за вас», говорит он тихим вкрадчивым голосом: «Счастье, что генерал приехал, а то наш командир строгий. Теперь вот что: принесите копии со всех ваших бумаг, а главное — не забудьте медицинского свидетельства, которого у вас не хватает. Когда всё это принесете, мы вас тотчас зачислим, задержки не будет. Впрочем, можете теперь уже считать себя принятым».
«Итак, я принят», думал я, выйдя из канцелярии: «Достиг того, о чем месяц хлопочу». Однако ж, мне жутко стало. При выходе из казарм, я увидел группу молодых солдатиков; их обучали. Неужели и я также часами буду стоять на холоде, носить тяжелое оружие, делать гимнастические упражнения. А ведь здоровье-то мое плохо, еле-еле в казармы тащусь. Но вспомнив Гродно, пристава, слова дядюшки, я примирился со своим положением.
Рассказываю я друзьям о том, что меня приняли, но что у меня не хватает медицинского свидетельства. Знакомый военный врач, старик Городков, спрашивает меня: «Неужели будете служить? Ведь вы для службы негодны. Это видно по наружности: груди не хватает, да и рост слишком мал». Рассказываю я ему о своем положении, о том, что не хочется мне ехать в Гродно, где служить придется при еще худших условиях; здесь же мне легче служить, и академия близко. «Нет, где вам служить!» говорит доктор: «А насчет свидетельства приходите ко мне завтра в корпус; там я вас освидетельствую и выдам вам документ». На следующее утро, придя в кабинет доктора, я застал там целую комиссию врачей. Все меня взвешивали, измеряли, выстукивали грудь, выслушивали и затем за подписями всех выдали мне свидетельство с приложением казенной печати. «Ну, вот и документ», улыбаясь, говорит главный врач: «Снесите это в полк. Посмотрим, как они вас примут». — «Ведь мне хуже будет», говорю я: «Если не примут, в Гродно пошлют». — «Не ваше дело! Отдайте бумагу. Какой вы солдат! Вам надо художеством заниматься, а не военным быть».
Несу все свои бумаги в полк. Письмоводитель их просматривает и говорит: «Вот прекрасно, теперь все в порядке. Сегодня же приму вас». Но, читая мое медицинское свидетельство, он широко раскрывает глаза от изумления и тихо говорит мне: «Послушайте, ваше дело скверно, с такой бумагой вы не можете поступить. Советую, подите к нашему полковому доктору, попросите: он человек добрый, он даст вам такое свидетельство, которое будет годиться; а эту бумагу лучше не показывайте. Да и написали вам бумагу: точно полтора понедельника осталось вам жить». Но посмотрев на меня, он прибавил: «А действительно, какой вы худенький и маленький!» — «Да, я действительно нездоров», жалуюсь я. «Но тогда какого чорта вы к нам поступаете, хлопочете и рветесь на службу?» — «Что делать: мне нужно отбыть воинскую повинность. Не хочется мне ехать в Гродно. А если бы не необходимость, то ни за что не служил бы: здоровье плохое, да и в академии учусь». — «Так, значит, вам служить не хочется?» замигал быстро глазами письмоводитель: «Так бы и сказали. А я-то все думаю, что вам хочется служить. Что ж, можно и иначе устроить: вот напишу вам бумагу в городскую думу, чтобы вас там освидетельствовали. Снесите ее и, если дело уладится, приходите ко мне потом на квартиру».
Снес я свидетельство в думу. Председатель воинского присутствия, прочитав ее, так разозлился, что я от страха чуть не убежал. «Как смел полк нам предписать вас освидетельствовать?! Я задам нахлобучку тому, кто это написал! Не их дело! Поезжайте в Гродно, в ваш участок!» Опять горе; все хлопоты потеряны напрасно. Жалуюсь знакомым, рассказываю о своей беде. Но генерал Новицкий еще раз заступается за меня. Он был близко знаком с гродненским губернатором, который находился тогда в Петербурге, и рассказал ему всю мою историю. Губернатор призывает меня к себе и советует мне подать ему же прошение о том, чтобы мне освидетельствоваться в Петербурге. «Эту бумагу отправьте в Гродно моему вице-губернатору; он ее сюда мне перешлет, а я уже поговорю со здешним губернатором». Но случилось другое. Вице-губернатор в Гродно передал мою бумагу воинскому начальнику, который прислал мне телеграмму... чтобы я немедленно явился в Гродно. Казалось, дело мое совершенно погибло.
Я был в отчаянии. «От кого это, наконец, зависит?» спрашивает В. В. Стасов, которому я рассказал о своем горе. «От министра внутренних дел», отвечаю я. «А кто товарищ его?» задумался Стасов: «Ба, да ведь он товарищ мой по правоведению! Попробую, попытаюсь. Вы тут, Элиас, подождите, а я сейчас сбегаю к нему». Через короткий промежуток времени Стасов возвращается радостный. «Ну, Элиас, вот вам и устроил. Все кончено. Прихожу я к товарищу министра. Сейчас же меня принимает, встречает меня с распростертыми объятиями. «Вы, Владимир Васильевич, ко мне. Что вас заставило прийти?» Я ему так и так, все рассказал, а он, не дав мне договорить, спрашивает: «Не еврей ли он?» Да, говорю, еврей. «Жалко», отвечает министр: «Я дал себе слово для евреев ничего не делать». А я ему о вас запел. Тогда он и говорит: «Вы даете мне слово, что это человек хороший?» Даю. Он надавил пуговку и моментально распорядился о вас. Вот как скоро!
— «Да», подумал я: «надавил пуговку, и я избавился от всего».
Через несколько дней меня в думе освидетельствовали и нашли меня к военной службе совершенно негодным. Этим и закончилась моя эпопея о воинской повинности. Целый месяц ходил я по казармам, по канцеляриям, часами стоял у дверей полкового командира, и это так надорвало мое и без того слабое здоровье, что я стал сильно кашлять, и у меня показалась кровь из горла.
14.
В это время пришлось поднять вопрос уже не о том, годен ли я к военной службе, а годен ли я вообще, ибо здоровье мое совсем расшаталось, и уже не к полковому доктору, которого рекомендовал мне писарь, а к самому С. П. Боткину меня отправили. Тогда Боткин был в апогее своей славы, и простому смертному трудно было к нему попасть; но за меня, по просьбе Стасова, хлопотал М. А. Балакирев, который устроил так, что Боткин принял меня в своей клинике, в академии.
Прием происходил во время чтения лекции на четвертом курсе. Аудитория была полна. Все студенты, а также молодые врачи были в сборе. Лекция была посвящена мне, т. е. моей болезни. Меня так заинтересовало содержание лекции, что из пациента я превратился в слушателя. В аудитории было свежо, но я, сидя совершенно раздетым, не чувствовал холода и так увлекся лекцией, что забыл, в каком я виде, и чуть не вышел раздетый из аудитории вместе со студентами. С тех пор прошло около 20 лет, но многое осталось еще в моей памяти. Боткина я до того времени не видал, но я тотчас узнал его по бюсту Антокольского. Только на бюсте он задумчив, а в действительности был полон жизни. Лицо у него было заплывшее, но по выпуклому лбу и глубоко лежащим живым глазам видно было, что это человек высокого ума и таланта. Общий тип — чисто русский, несколько купеческий. Расспросив меня предварительно о том, что я делаю, как леплю, где живу, чем питаюсь, он приступил к выслушиванию груди и затем заговорил приблизительно так: «Вот перед вами субъект крайне истощенный, тщедушного сложения. Грудь слабая, под таким-то ребром слышна хрипота. Он занимается скульптурой и весь день стоит перед мокрой глиной; питается плохо, в кухмистерских. У него появилась кровь из горла. Ему 21 год. Если такой больной к вам обратится, то вы сейчас же гоните его из Петербурга, ибо его болезнь может развиться быстро. Но за этого молодого человека не бойтесь: он еврей. Его родители бедны, тщедушны от рождения, набожны, едят мясо, с которого спущена кровь, не едят ничего сырого, сала не выносят. Многие ведут сидячую жизнь. Из рода в род передается им тщедушие; но вместе с тем передается и удивительная выносливость. Они обладают изумительной жизненной способностью. Их семейная жизнь строга, кровь у них чистая, циркуляция крови правильная. Ровно десять лет тому назад обратился ко мне другой еврей, его учитель Антокольский, такой же тщедушный. У него была болезнь горла в такой острой форме, что я испугался и упустил из виду все те обстоятельства, о которых вам только что говорил: я приговорил его к смерти, полагая, что он долго не проживет. Но вот он поправился и поныне здравствует. Итак, если такой субъект к вам обратится, то, на основании его прежней жизни, его происхождения, его расовых особенностей, не пугайтесь и не думайте, чтобы он был в опасности».
«Так вот какой я!» обрадовался я: «Мне и бояться нечего. Пожалуй, в академии могу продолжать заниматься». Однако, Боткин передал через Балакирева, что мне следует уехать на юг. Барон Г. О. Гинцбург дал мне на это средства. Я решил расстаться с академией и начал готовиться к поездке в Париж.
15.
«Еду, еду в Париж», полный восторга и радости, говорил я всем и всюду. «Счастливый, счастливый», везде отвечали мне. «Не забудьте, Элиас, побывать в тех местах, в тех музеях, о которых я вам говорил», твердил мне В. В. Стасов: «Впрочем, я вам напишу все на бумажке, чтобы не забыли». — «Постарайтесь попасть в палату депутатов во время прений», говорили мне знакомые. — «Конечно, вы сходите в Bal Mainte и в Alcazar», шопотом и с насмешкой прибавляли третьи. Я забыл и свою болезнь, и свои неприятности с воинской повинностью, все думал о том, что мне вскоре предстоит. Какое счастье, что я побываю в Париже, в этом великом городе. Это было вскоре после славной всемирной выставки 1878 года, когда почти весь мир поздравлял Париж и Францию с полным восстановлением сил после разгрома 71 года. Всё молодое, всё свободное устремлялось тогда во Францию, чтобы поучиться у знаменитых профессоров н художников. Впрочем, я не учиться ехал: мне хотелось лишь повидаться с Антокольским и потом уехать на юг.
Помню, приехал я в Париж рано утром, когда на улицах не было еще никакого оживления. Сидя в закрытой карете, я все нагибался к окошку и смотрел на однообразную линию домов, которые, после петербургских, казались мне скучными и некрасивыми. Зато глаз мой был поражен пестротой огромных афиш на заборах и стенах. Это показалось мне характерным для Парижа.
Заехал я к Антокольскому, жившему тогда возле Place de l’Etoile, на Avenue Victor Hugo. Восемь лет прошло с тех пор, как я жил у Антокольского, в доме Воронина, против академии, — и какая перемена! Квартира, куда я теперь заехал, была, правда, маленькая, но что за убранство, какое изящество, с каким вкусом всё в ней было расставлено и устроено! На всех столах разложены старинные вещи из кости, дерева и кожи. «А что это за ружье, зачем оно вам?» спрашиваю я у Марка Матвеевича. «Это старинное; впрочем, тебе-то это еще непонятно. Здесь в Париже все собирают antiquités, и я пристрастился к этому. Поживешь, и сам втянешься в эту страсть, она очень завлекательна. А сколько пользы принесла эта коллекция моей работе! Очень развивает вкус. Одно только: разоряешься очень на покупку этих вещей. Но деньги не потеряны; я их всегда получу обратно».
В первый раз увидел я тогда красивых дочерей Антокольского, одетых с большим вкусом, по-старинному. Они напоминали средневековые портреты. Похорошевшая жена Антокольского, Елена Юльяновна, одета была к лицу и изящно. Сам Марк Матвеевич ничуть не постарел: он был полон сил и энергии. «Счастливый», подумал я: «вот, должно быть, доволен судьбою: всего достиг, чего хотел». — «Ну, теперь поведу тебя в мастерскую, там увидишь другое», сказал Антокольский.
По дороге, пройдя по Place de l’Etoile, он обратил мое внимание на огромный барельеф работы Ruhd’а на Arc du Triomphe. «Вот посмотри, это один из лучших образцов французского творчества. Сколько тут огня, как талантливо, но и какая риторика! Талантливы французы, но, вместе с тем, и бессодержательны. В искусстве они спрашивают, как сделано, а не что сделано. На выставке увидишь массу хороших вещей, но много и плохих. А насчет себя скажу, что мне тут не место», прибавил он с некоторой грустью в голосе: «Меня все тянет обратно в Италию — там меня понимают, и жизнь там спокойная и тихая. А тут этот шум и гам, мне не по сердцу. Одно — детям тут лучше учиться и жене здесь очень нравится». Незаметно, разговаривая, подошли мы к мастерской, помещавшейся в узенькой rue Bayen, у шумного, грязного рынка. Сердце у меня забилось, когда я увидал массу статуй и бюстов. «А вот старые знакомые!» воскликнул я, увидав Иоанна Грозного и Петра. «Нет, ты посмотри мои новые вещи! Увидишь, какие я сделал успехи. Старое — то, да не то». И взяв меня за руку, он подвел меня к мраморному Сократу, а затем ко Христу — работы, за которые он получил награду на всемирной выставке. Действительно, какая удивительная техника, какая широкая лепка в этих новых работах! Что за красивые формы тела и драпировки и сколько везде мысли и чувства! Но невольно опять мой глаз перескакивает на Иоанна Грозного, стоявшего в глубине мастерской. Сравниваю его с новыми работами, и кажется мне, что он, поражающий такой энергией и смелостью, не хуже новых работ. «А где «Инквизиция»?» спрашиваю я, желая проверить свои прежние впечатления. «Ох, об ней не говори; она у меня повернута к стене: ее так испортил при отливке бронзовщик, что я на нее и смотреть не могу и никому ее не покажу. Может быть, когда-нибудь я ее переделаю. Впрочем, у меня сюжетов столько, что не знаю, за который раньше взяться. Есть и еврейские сюжеты: «Моисей», «Дебора», «Вечный жид»; но теперь я думаю о другом».
Кроме работ Антокольского, я в Париже ничего не осмотрел в этот мой приезд. Доктор, хотя находил мое здоровье удовлетворительным, однако, советовал поскорее уехать на юг. Не стоило в несколько дней осматривать Париж, когда я собирался после на всю зиму остаться здесь. Пока же, до своего отъезда, я пользовался прекрасной погодой и гулял по окрестностям Парижа. Весна была бесподобная. Не знаю, почему добрые знакомые мои в Петербурге, перечислив все прелести Парижа, не говорили мне о парижской весне; я думаю потому, что в эту пору им не приходилось бывать в Париже, иначе они с восторгом рассказывали бы об этом. Памятна мне моя первая прогулка. Рано утром отправился я по широкой, чистой avenue в Булонский лес. Перспектива высоких, зеленеющих деревьев, за которыми виднелись капризно выстроенные особнячки-отели, бесконечные густые аллеи, чистое голубое небо, все вместе подействовало на меня так, что, казалось, с природою, перерождаюсь, возобновляюсь и я. Не чувствуя усталости, я прошел по главным аллеям, через весь лес, перешел по мосту через Сену, берега которой поразили меня своей простотой и своеобразной красотой, и попал в St-Cloud; там, пройдя мимо дворца, поднялся я на террасу, откуда неожиданно открылся моему взору весь Париж, — Париж, в котором я сейчас жил, но которого еще не знал, Париж, о котором я столько мечтал и общим видом которого теперь любовался, прежде чем проникнуть в него глубже. Вернулся я в город по чудным берегам Сены, через предместье Нэйи. Эту прогулку я повторял несколько раз, но первая запомнилась мне больше всего.
16.
Вскоре я уехал на юг Франции, и уехал не один, а с художником Крачковским, пенсионером академии. Он был пейзажист, и ему хотелось писать этюды на юге Франции, но, не зная французского языка, он нашел удобным присоединиться ко мне, а мне было веселее ехать с товарищем. По совету одного художника, мы поехали в маленький городок St.-Jean de Luz, тогда еще мало посещаемый иностранцами. Мы приехали туда рано утром. Носильщик перенес наши вещи в ближайшую гостиницу, и мы, осмотрев комнату и разложив там вещи, выбежали на улицу, чтобы посмотреть, куда мы попали. Было чудное свежее утро. На улице была полная тишина, точно все спали. Зеленые ставни были везде закрыты. Мы некоторое время стояли в раздумьи, не зная еще куда нам итти. С конца улицы доносился какой-то равномерный глухой гул, и мы направились туда по круто подымающейся мостовой. Затем перед нами открылось неожиданное зрелище: широкий, бескрайний синий горизонт отделял тихое зеркало океана от ярко-голубого неба, и огромная полоса белого песка отделяла нас от бесконечной глади воды. Все было неподвижно и тихо; только в том месте, где песок кончался, пена, в виде еще более белой ленты, шевелилась, и там-то и происходил этот глухой гул. Раньше я никогда океана не видел, и зрелище это произвело на меня такое впечатление, что я долго стоял к изумлении. Так вот откуда этот шум! Так близок он, а мне он показался, бог знает, где. «Что за тишина, что за колорит!» восхищался мой товарищ. На обратном пути, когда мы спускались с высокого берега, нам представилась картина совершенно другого рода: огромная зеленая долина отделяла наш городок от красивой цепи Пиренеев; вдали блестела на солнце речка, за которой виден был другой городок. «Как тут прекрасно, какое счастье, что мы сюда попали!» сказали мы в один голос.
Со следующего же дня мы стали ходить на этюды. Товарищ мой, очень любивший Малороссию, предпочитал места ровные, с большим горизонтом. Горы ему не нравились. «Что за природа в горах: грубая, непоэтичная! То ли дело Малороссия, степи, бесконечный горизонт и высокое небо». Я не был с ним согласен: мне нравились горы, Случалось, однако, что мы направлялись в горы — товарищ мой, навьюченный ящиком с красками и зонтиком, а я с альбомом и складным стулом. Усаживались мы где-нибудь в тени и работали часами, не замечая, как идет время. Чистый горный воздух, тишина и чудесная природа, — все это доставляло мне такое удовольствие, которое понятно больше всего истинному пейзажисту. Работа нам удавалась, и мы чувствовали себя счастливыми. Иногда мы отправлялись на этюды еще и после обеда. Вечером мы развешивали свои работы по стенам, сравнивали их и радовались, что число их увеличивается. Случалось, что на нас нападала меланхолия. Тогда мы отправлялись гулять на пляж. Товарищ мой напевает русские песни, а я подтягиваю, как могу. В песнях этих мы иногда изливали нашу грусть по родине, и обыкновенно после пения мы друг другу рассказывали о своем житье-бытье в России.
Русских здесь не было никого. Но раз произошел такой случай: мой товарищ был в ударе и от песен меланхолических перешел к легким цыганским романсам. «Вдруг услышит нас кто-нибудь», говорю я ему. «Какая собака нас тут поймет!» возражает мой певец и продолжает свой жестокий романс. «Голубчики, стойте!» кричит в это время кто-то по-русски. Оглядываемся — видим, к нам бежит высокий мужчина, лет тридцати пяти, брюнет, с открытым, добрым лицом. «Ах, русские, дорогие мои, милые! Сам бог прислал вас сюда», воскликнул незнакомец, подойдя к нам. «Позвольте представиться: моя фамилия Арбузов. Я погибаю здесь с тоски, хотя я здесь не один: вот тут гуляет генерал Комаров со своим семейством. Оттого-то я и остановил вас: боюсь, запоете вы такой романс, которого барышне не следует слышать. Пойдемте, познакомлю вас с генералом». Генерал оказался стариком с очень энергичным лицом восточного типа; но сгорбленность, замедленная речь и бледный цвет лица свидетельствовали о его болезненном состоянии. С ним была девушка, с длинной светлой косой, и старушка мать, обе на вид очень симпатичные, «Рад познакомиться», говорит генерал: «Как вы сюда попали? Если бы не болезнь, я бы в эту дыру ни за что не поехал. Хвастуны эти французы! Как расписали! В путеводителе даже отмечены тумбы и деревья». — «А все-таки вам тут лучше», успокаивает генерала старушка, — тип рассудительной и умной русской женщины. «Милости просим», обращается она к нам: «Приходите к нам сегодня чай пить, у нас самовар есть».
В тот же вечер мы отправились с новым нашим знакомым Арбузовым в кафе. Он угощал нас вином, но больше всего угощался сам. Тут мы узнали его историю. Он сын московского городского головы и в Москве сильно предавался вину. Родитель послал его заграницу проветриться и полечиться. «И вот какой я несчастный», кончает свой рассказ самобичующийся Арбузов: «Здесь я так тоскую, что места себе не нахожу. Позвольте мне с вами на этюды ходить; это меня развлечет, и я от недуга своего избавлюсь». Мы охотно согласились, и с тех пор в нашей компании было много оживления, ибо наш спутник оказался очень остроумным и веселым собеседником.
Но недолгим было воздержание нашего интересного знакомого, и по вечерам он стал носить вино к нам. Мы запрещали ему это делать, обыскивали его перед приходом домой, но он, в нашем отсутствии, заблаговременно прятал под кроватью корзину с шампанским.
В St.-Jean de Luz мы жили тихой рабочей жизнью целых пять месяцев. Дни шли за днями — незаметно и однообразно. По несколько раз наша жизнь выбивалась из обычной колеи. Раз мы три дня не работали, участвуя в праздниках святого Иоанна. На это время весь город превращается в ярмарку; устраиваются игры, даются театральные и цирковые представления, съезжаются со всех окрестных деревень крестьяне: тут и испанцы, и баски, и французы — многие в национальных костюмах. Мы присутствовали на всех играх и зрелищах, но больше всего нас интересовали народные танцы. Не забуду, как, возвращаясь однажды вечером домой, мы наткнулись на следующую картину: городская площадь, вся облитая лунным светом, казалось нам, колыхалась, как море, и только приблизившись, мы увидели, что это танцующий народ, который заполнил всю площадь. Несколько мандолин играли народный танец фанданго, а рослые, красивые баски, как мотыльки кругом цветка, вертелись вокруг грациозно танцующих девушек. За эти три дня мы еще больше познакомились с местной жизнью, но незадолго до отъезда мне удалось увидеть и более грандиозное зрелище.
В St.-Jean de Luz появилось однажды объявление о том, что на такой-то день в St.-Sébastien’е назначен бой быков. Программа была указана подробная, а имена главных участников были напечатаны жирным, красивым шрифтом, при чем назывались города, где они родились, перечислялись все их победы и заслуги. Я решил поехать туда и посмотреть то, о чем так много все вокруг говорили. До границы я дошел пешком. Это была прекрасная прогулка через чудесные Пиренеи. Пограничный испанский город Ирун уже вполне носит испанский характер: узкие улицы, заборы, обвитые зеленью, дома со множеством балконов — все это было для меня занимательно и ново. Дальше я поехал по железной дороге по берегу моря, мимо чудесного острова, на котором красовался старинный городок с развалинами и башнями. Погода была восхитительная; путешествие обещало быть удачным. St.-Sébastien'а я не успел осмотреть: торопился на представление в театр, где происходили бои быков, — огромный, открытый, круглый, как Колизей. Поразило меня яркое убранство: сиденья были разукрашены зеленью, флагами и красной материей; главная ложа задрапирована коврами и материей национальных цветов; испанский герб, прибитый сверху, указывал на то, что это ложа мэра или другого представителя города. У меня было хорошее место, вся арена и все другие места были мне видны. Скоро весь театр наполнился народом; все запестрело; публика образовала собой сплошную полосу. Снизу полоса эта окаймлялась красной рампой арены; сверху же она кончалась флагами и гирляндами, а там, выше — чистое голубое небо. Зрелище необыкновенное; многообразие чудных красок приятно ласкало глаз, и я любовался общей картиной. Появилась процессия артистов в костюмах, расшитых золотом и шелком и заблестевших на весь театр. Я вздрогнул, когда музыка заиграла национальные испанские мотивы: они показались мне похожими на еврейские напевы. Разодетые, стройные, красивые актеры идут бодро, в такт чудесно звучащих мандолин. Все зашевелились в восторге, зажженные огневым национальным духом. Процессия обходит весь театр и останавливается у разукрашенной ложи. Там на первом месте сидит какая-то красивая женщина. Процессия кланяется ей, публика неистово аплодирует. Многие выкрикивают имя этой женщины. «Вот так торжество!» воскликнул я громко по-русски, почувствовав потребность услышать свой собственный голос: «Стоит из-за тридевяти земель сюда приехать, чтобы увидеть это великолепие». Но процессия удаляется; музыка замолкает; всё утихает.
Не заметил я, как на арене появился бык. Это не было костлявое, неуклюжее животное, каких я привык видеть у нас дома. Предо мной стоял стройный, красивый зверь, чудного темносерого цвета, на довольно высоких ногах и с длинной шеей. Он гордо поднял голову и удивленно посмотрел своими прекрасными большими черными глазами на пеструю толпу. Вся его фигура выражала силу и красоту, и я невольно залюбовался этой дикой грацией. Нарядные костюмы, музыка, голубое небо и этот дикий зверь, всё вместе продолжало восхищать мой глаз: все эти вещи были одинаково прекрасны. Но на этом все мое удовольствие, все мое торжество кончилось. Дальше произошел такой ужас, такое безобразие, что от настроения восторженного я дошел до невыносимого страдания. Не верилось как-то, что разодетые красавцы, которые в процессии плавно ходили под аккомпанемент мандолин и так любезно кланялись даме, теперь все вооружены орудиями пытки: кто длинными иглами, кто пикой, а кто кинжалом.
Поочередно, соблюдая какой-то установленный порядок, правило или программу (без правил или программы не совершается ни одно насилие, ни одно убийство, война или дуэль), они мучат растерявшегося зверя, сперва втыкают ему иглы в кожу, потом пиками колют его и затем закалывают ножом. Все эти ужасные мучения причиняются с таким расчетом, чтобы бык как можно сильнее разъярился, и когда истекающее кровью животное бросается на своих мучителей, то одни трусливо разбегаются, а другие в это время продолжают дразнить быка, отвлекая его в сторону. Глядя на эту безобразную потеху, я вспомнил то, что видел однажды в детстве: дрянные мальчишки поймали мышонка; они накалили железный прут и через отверстие мышеловки жгли глаза и тело несчастного зверька. Мышь бегала, пищала, а мучители хохотали. Один все старался попасть прутиком прямо в глаз, и когда это ему, наконец, удалось, все захлопали в ладоши от радости.
В это время бык перескакивает через барьер, и публика в ужасе разбегается; я же злорадствую. Хочется мне, чтобы бык погнался за бегущими; но бык, к досаде моей, возвращается на арену. Пикадор на лошади, у которой завязаны глаза, втыкает пику в открытую рану быка. Бык в остервенении бросается на лошадь и рогами распарывает ей живот; кишки лошади вываливаются на землю. Пикадор спасается бегством. Скоро и убитую лошадь и внутренности ее убирают на глазах всей публики с арены. Бык бросается на другого мучителя, который перескакивает через барьер и, падая, разбивает себе нос. Кровью он забрызгал рампу. Наконец, выполняется самый важный и последний номер программы: так называемый, матадор шпагою закалывает быка. Публика кричит, галдит; я думаю, что это от радости, но смотрю — показывают кулаки, ругаются неприличными словами, бросают на сцену апельсиновые корки. Предполагаю, что возмущение вызвано тем, что быка убили, но и это не так, ибо по программе быка следует убить. Оказывается, что бык убит не по установленным правилам.
Музыка заиграла, но шум и гам все не унимаются. На сцене появляется новый бык. Я встаю и, громко ругаясь, направляюсь к выходу. На меня смотрят и иронически улыбаются. Несколько дней я все был под впечатлением этого ужасного зрелища и не мог есть и спать. Когда же через несколько лет я был в Мадриде и узнал, что там скоро состоится бой быков, я уехал из города, чтобы не видеть больше той публики, которая примет участие в этом отвратительном безобразии.
17.
Я вернулся в Париж глубокой осенью и из экономии поселился в предместьи Парижа — Нейи. Я снял комнату на глухой улице, в маленьком отеле, в котором жили преимущественно итальянские рабочие и кучера. Дверь моей комнаты выходила в темный коридор верхнего этажа. Обстановка у меня была такая, какая обыкновенно бывает в подобных отелях: огромная деревянная кровать со старыми, запыленными, спускающимися с потолка, занавесками, занимала три четверти комнаты; полукруглый стол был прислонен к мраморному камину, на котором находились зеркало в золоченой раме и испорченные часы; старый умывальник, маленький стол у кровати и единственный стул, — вот всё, что могла вместить эта крошечная комната. Всё имело вид старый, даже ветхий. Менялись хозяева ресторана, одни умирали, другие, наживаясь, передавали ресторан третьим, но обстановка в комнатах оставалась одна и та же в продолжение многих десятков лет. Какая-то грусть всегда охватывала меня, когда я оставался в своей комнате лишний час. Впрочем, дома я только спал. Рано утром я отправлялся к Антокольскому в мастерскую и по дороге, на улице под воротами, где старуха продавала горячий кофе, стоя выпивал за три су огромную чашку серой жидкости. В мастерской я тогда делал копии с гипсов, большею частью с работ самого Антокольского. Но работа шла у меня туго, и я не был доволен ею; техника у меня была слабая; в академии я еще не успел ничему научиться, а указания Антокольского не всегда были мне понятны. Его поправки только обескураживали меня. Антокольский был тогда занят реставрацией статуи Петра. Он поручил мне по гипсовой статуе работать воском, но я исполнил его задание неумело, не так, как ему хотелось. Он сердился и бывал мною недоволен. Вообще, я чувствовал себя в мастерской не совсем свободно: сам стеснялся работать, и мне казалось, что я стесняю других. Преклоняясь перед работами Антокольского, его изумительной техникой и глубокой мыслью, которую он всегда вкладывал во все свои произведения, я, однако, чувствовал себя неспособным к исторической и героической скульптуре (grand art) и все мечтал о жанровых работах. В музеях и на выставках я выискивал вещи, изображающие сцены из современной жизни. Еще в петербургском Эрмитаже я любовался картинами голландской и фламандской школ, а в Париже я был тогда в восторге от новых работ художников-националистов. Тогда Жюль Бретон, Бастьен-Лепаж, Лермит, Данган-Буврэ и другие писали изумительные картины из народного быта, писали так правдиво и понятно, что я стал еще больше сознавать в себе влечение к этому жанру.
Не менее нравился мне и реализм французских скульпторов; они уже отбросили тогда старую, непонятную мне манеру подражания классикам, и хотя все еще изображали голые фигуры и бессмысленные аллегории, однако, сама трактовка вещей была реальная и правдивая. Не принималось на веру, как прежде, то, что делали греки и римляне, а все проверялось по натуре, и в этом отношении искусство скульптуры начало жить своей жизнью. Началась, хотя пока только в отношении техники, новая эпоха, — не реставрации старого, а создание чего-то нового.
Антокольскому тогда очень понравились мои рисунки и некоторые этюды масляными красками, которые я привез из St.-Jean de Luz. Он посоветовал мне показать их Боголюбову, с которым он был тогда в самых лучших отношениях. Боголюбов, видевший меня как-то в мастерской Антокольского, принял меня в своей мастерской довольно любезно, но работ своих мне не показывал. Я заметил только несколько мольбертов, на которых стояли небольшие марины, писанные во французской манере. Сам Боголюбов, высокий, бодрый еще старик, стоя, покровительственным тоном расспрашивал меня о моих занятиях в академии. «Здесь теперь ваш президент, великий князь; вам следует ему представиться», сказал он. Рисунки мои он одобрил: «Хорошо рисуете. Я могу принять вас в ученики; вы у меня научитесь хорошо писать. Это ничего, что вы еврей. Вот скульптор Беренштам тоже еврей, а я ему протежирую. Одно только: чтобы вы мне потом не сделали того, что сделал бывший ученик мой Беггров: он, подлец, стал копировать меня и так подделался под мою манеру писать, что его картины принимали за мои».
Показал я также свои рисунки М. Я. Виллие. «Надо вам поступить в школу к какому-нибудь знаменитому художнику», громко сказал всегда весело настроенный художник: «Только у французов и можно учиться. Если позаимствуете их манеру, то в гору пойдете». И не сказав мне ничего, он съездил к Бонна и попросил его принять меня в ученики. Однако, я не мог принять любезных предложений Боголюбова и Виллие; скульптуре я не был намерен изменять, а кроме того, мне вообще не хотелось поступать к какому-нибудь новому учителю. Я достаточно наслушался рассказов о парижских знаменитостях, об их глубоком равнодушии к своим ученикам, а с другой стороны, и сами ученики только в целях саморекламы пользовались именами знаменитых профессоров; мне же все это было противно. Я тогда уже чувствовал инстинктивное отвращение к слепому поклонению художественным авторитетам и их манере работать, и таким образом остался верен академии, а пока — мастерской Антокольского.
В мастерской моего учителя я близко сошелся с молодым евреем Зильберманом. Интересна судьба этого человека. Уроженец Орловской губернии, он получил в наследство от отца водочный завод, но, принципиально не желая заниматься этим делом, все распродал и уехал в Париж, чтобы там научиться какому-нибудь новому делу. В поисках работы он издержал все свои деньги, заболел и попал в больницу. Там его случайно увидел художник Дмитриев-Оренбургский, который приютил его у себя. Впоследствии Зильберман поступил к Антокольскому в мастерскую, где за некоторую плату исполнял всякие поручения, убирал мастерскую и покрывал тряпками и колпаками работы. Но в свободное время он лепил, резал по дереву и обнаружил такие большие способности, что Антокольский считал его своим учеником и помощником и советовался с ним во всех своих делах. И другие художники оценили способности Зильбермана. Впоследствии его выбрали секретарем Русского Общества Художников в Париже. Мы с ним подружились и проводили вместе почти весь день. Мы вместе завтракали в крохотном кабачке, находившемся у рынка и содержавшемся высокой, толстой бретонкой m-me Эрнест, которая готовила нам вкусные завтраки. В этом кабачке я встречался с несколькими русскими художниками; с ними мы вместе садились за отдельный столик. Я тогда жил на очень скудные средства и не мог много тратить на еду. Случалось, что я с завистью смотрел, как мои соседи берут целые порции; я же должен был довольствоваться полупорциям и, притом таких блюд, за которые не надо платить supplément¹). За компанию, я из подражания пил много простого вина; после завтрака, под впечатлением оживленного разговора и выпитого скверного вина, я находился в возбужденном состоянии, и вместо того, чтобы итти в мастерскую, где никого еще не было (Антокольский и рабочий тоже отправлялись завтракать), я уходил на час на крепостные валы; там, усевшись на насыпи, я зачерчивал виды и наблюдал за быстро пробегавшими мимо меня поездами круговой железной дороги. В мастерской же я работал затем до самого вечера, и потом мы вместе с Марком Матвеевичем отправлялись к нему обедать. Антокольский вел тогда семейный и замкнутый образ жизни; у него мало кто бывал, гости собирались редко. После обеда все домашние расходились обычно по своим комнатам, Марк Матвеевич читал или писал, и я, посидев немного за русской газетой, уходил.
____________
¹) Дополнительно.
Но куда итти? Домой еще рано. Мне противно возвращаться в мою комнату через ресторан, наполненный пьющими кучерами и лакеями. И вот, очутившись на Place de l’Etoile, откуда лучами расходятся улицы по всем направлениям, я, не зная куда деваться, иду куда глаза глядят. Иногда спускаюсь по улицам, ведущим к Сене, но темнота и закрытые большие отели наводили там на меня тоску. Не менее грустно было мне гулять и по аллеям, ведущим в Булонский лес; там просто страшно было одному: всё какие-то подозрительные личности встречались по дороге. Заманчивыми казались мне Елисейские поля, эта главная артерия, ведущая в центр города. Словно пульс всего Парижа бьется тут жизнь бульваров. Я иногда спускался по этой единственной в своем роде улице, останавливался у концертных зал, освещенных тысячами огней, но, не имея денег, чтобы войти, проходил мимо и через Place de la Concorde попадал к Madeleine, а оттуда на бульвары.
Однажды вечером гулял я по Монмартрскому бульвару. Скучно мне было одному в этом шуме и общем весельи. Я остановился у театра «Водевиль» и с завистью разглядывал разряженную публику, входившую в ярко освещенный театр. Я еще ни разу не был ни в одном парижском театре, и мне очень хотелось посмотреть, как французы играют. Но в кармане у меня был всего лишь один франк, а мне еще хотелось выпить вечером «Groseille». Какой-то субъект, молодой, и котелке, похожий на тех, которые снуют у кафе с разными товарами, предлагает мне билет в театр: «Seulement 50 centimes»¹), говорит он шопотом. «Вероятно фальшивый билет», думаю я. Но, точно угадав мои мысли, он продолжает: «N’ayez pas peur, le prix est 2 francs. Je vous placerai bien»²).
____________
¹) «Только 50 сантимов».
²) «Будьте покойны, ему цена 2 франка, место хорошее».
«Может быть, ему даром достался билет. Отчего бы не пойти, если так дешево», думаю я и плачу 50 сантимов. Направляюсь к главному входу, но продавец берет меня за руку и ведет меня в темный двор, где ждут человек десять, снабженных такими же билетами, как у меня. Мы вместе подымаемся по грязной черной лестнице в верхний этаж, за кулисы. Тут нас опять ждет партия человек в десять. Пересчитав всех нас, благодетель наш исчезает; мы остаемся одни и в недоумении смотрим друг на друга. «Все равно попался», думаю я: «что будет, то будет». Однако, скоро наш предводитель возвращается, и мы снова идем за ним; через какие-то кладовые и темный низенький коридорчик мы попадаем в освещенный театр, на самый верх. «Вот первая скамейка в вашем распоряжении; рассаживайтесь, как хотите, места хорошие». Сам он тоже уселся на краю нашей скамьи. Место у меня, действительно, хорошее: точь-в-точь такое, как первая скамейка 4-го яруса нашего Мариинского театра, где я заплатил бы за такое место не менее 75 копеек. Внизу, в партере пустовато; какой-то субъект важно расхаживает между скамейками и что-то выкрикивает. Прислушиваюсь, ничего не могу разобрать; но мой сосед, весельчак и шутник, передразнивает; «Voilà le programme».
Занавес поднимается; начинается представление. Актер декламирует, сильно размахивая руками. Я ничего не слышу и ничего не понимаю. Но только окончился монолог, как наш предводитель слегка приподнимается, нагибается и, глядя в нашу сторону, сильно хлопает, а за ним и вся наша скамейка. Смотрю — внизу, в театре, гробовое молчание. Представление продолжается; актриса что-то говорит, и только она кончает свой рассказ, как опять раздается неистовое хлопанье на моей скамейке. Я один не хлопаю, зато хлопают решительно все, сидящие возле меня. Сосед толкает меня в плечо. Оглядываюсь: вижу — наш благодетель кивает мне головой, жестикулирует, точно в чем-то упрекает меня. Я смотрю на пего в недоумении. Тогда он подбегает ко мне сзади и говорит: «Monsieur, il faut claquer!¹) Но слово «claquer» было для меня еще менее понятно, чем его кивки. Тогда он, сложив руки ладонями, и то соединяя, то разнимая их, говорит: «Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça!»²) Тут-то я догадался, что мой дешевый билет наложил на меня обязательство хлопать. «Но зачем это?» спрашиваю я себя. Мне стало не столько стыдно, сколько досадно, что, ничего не понимая, ни единого слова из того, что говорилось на сцене, я должен был еще аплодировать. Улучив удобную минуту, когда все внимательно слушали, я незаметно вышел в коридор, а оттуда бросился вниз по лестницам. Счастливый тем, что спасся, я очутился снова на бульваре. Когда я рассказал Антокольскому о случившемся, он долго хохотал, «Ты, голубчик, в клакеры попал. Знаешь, что это?» И он посвятил меня в подробности этого сорта рекламы. «Но советую», закончил мой бывший учитель: «не рассказывай никому, как ты попался: над тобой будут смеяться».
____________
¹) «Сударь, надо хлопать!»
²) «Надо сделать вот так, вот так, вот так!»
18.
Раз в неделю, — кажется, по вторникам, — я проводил время в обществе русских художников, в так называемом, «Русском клубе». Он помещался в доме барона Гинцбурга, rue Tilsite, 7 очень близко от меня и Антокольского. Там всегда собирались почти все русские художники, жившие в Париже, но бывали и другие приезжие русские — не-художники. Вечер проходил всегда очень оживленно, в разговорах, рисовании и чаепитии, и я аккуратно посещал эти вечера. Председателем этого общества был тогда И. С. Тургенев, который, однако, не всегда посещал наши вечера. Но когда он приходил, то его всегда окружали и жадно ловили каждое его слово. Говорил он, впрочем, мало, и я не помню его разговоров, кроме одного анекдота из тех, которые часто рассказываются в мужской компании после обеда. Но душой наших вечеров бывал всегда Боголюбов. Он больше всех говорил, да и действительно больше других знал все, что делается в Париже и в России. Имел много знакомых как в русских, так и во французских «высших сферах», он много делал для молодых нуждающихся художников: доставал стипендии и заказы, и даже солидные художники часто пользовались его услугами; некоторым он добывал иногда даже ордена. Но покровительствуя одним, он иногда обходил других. Плохо приходилось тому, кто ему почему-либо не нравился: такому он не только не делал добра, но иногда даже вредил. Так, всесильный Боголюбов не взлюбил почему-то бедного, разбитого параличом художника Егорова и отказывал ему в какой бы то ни было помощи.
В обществе Боголюбов всегда рисовал. Спичку или свернутую в трубочку бумажку он макал в чернильницу и этим способом делал в несколько часов красивый морской вид или пейзаж. При этом он обычно громко рассказывал, как он был у такого-то высокопоставленного лица, как его там приняли и как ему удалось выхлопотать для бедного ученика стипендию. В этих рассказах сквозило сознание собственной силы и влияния в высших кругах общества. Некоторые бедные художники, заискивавшие у него, с особенным подобострастием слушали рассказы этого «генерал-художника», как его называли в Париже. Другие молодые художники, которые были ему действительно многим обязаны, с благоговением смотрели на своего благодетеля. Более индифферентно относились к рассказам Боголюбова художники уже известные, не нуждавшиеся в нем: Харламов, Леман, Виллие и другие.
Много жизни и веселья вносил в это общество вечно бодрый и веселый М. Я. Виллие. Этот художник, наружностью напоминавший бывшего военного, всегда держался со всеми по-джентльменски, одинаково вежливо и просто. Страстный поклонник всего французского, он до тонкости знал Париж и частную жизнь французских художников.
Изящный, офранцузившийся Харламов, добродушный простяк Леман и молчаливый, болезненный на вид, Дмитриев-Оренбургский держались несколько в стороне, мало вмешивались в общие разговоры и свои взгляды высказывали отрывочно, иногда в шутливой форме. Антокольский же редко бывал здесь.
Но кто больше всего тогда мне нравился, это молодой, еще только начинавший пользоваться известностью, Похитонов, — высокий, некрасивый, с огромной шапкой всклокоченных волос и широко расставленными глазами. При всем его преклонении перед французскими художниками-пейзажистами, он больше других оставался в душе русским. Его скромность и простота располагали всех в его пользу.
На собраниях общества больше всего бывало разговоров о событиях дня: сообщали друг другу различные художественные новости и менее всего говорили о русских художниках в России. Зато особенные дифирамбы раздавались по адресу Франции и Салона. Меня поражали это обожание и этот фетишизм по отношению ко всему французскому, без разбору: и реклама, и приторная вежливость, и всяческие внешние эффекты, все превозносилось наравне с действительно хорошими сторонами французского искусства. Меня огорчало это пренебрежение ко всему, что было вне Парижа, как и то, что мерилом всего в искусстве был Салон, а единственным признаком успеха у художника — парижские газетные отзывы.
Помню, какой-то приезжий русский рассказывал однажды о передвижной выставке в Петербурге. «Вот я вам, господа, скажу, какой успех имел наш знаменитый Репин!» — «Какой знаменитый?» спрашивает один из наших офранцузившихся художников: «Чем он знаменит? В Салоне не было его картины? Нет? Значит, он не знаменит. Парижские газеты о нем не писали? Нет? Значит, успеха он еще не имел. Батенька, кто в Париже не выставляет, того мы не знаем. Пускай его работы примут в Салон, пускай о нем говорят здесь, тогда он будет признан». И действительно, между собой художники различали друг друга не по таланту, не по тому, кто что написал, а по тому, принята ли его работа в Салон, получил ли он награду. Такой художник почитался и уважался всеми. «Позвольте вам представить молодого художника; его картины приняты в Салон», — как часто произносилось это даже большими русскими художниками! О том, что это за картины, что они собой представляют, — не говорилось. Вообще, вопросы искусства и выяснение его задач редко затрагивались, и молодые художники, приезжавшие в Париж учиться, слушая рассказы о важности успеха в Салоне и значении газетных отзывов, начинали стремиться к достижению такого рода известности, такого легковесного, успеха (succès); и в результате, вместо того, чтобы честно работать, следуя своим внутренним влечениям, они принимались изучать те вещи в Салоне, которые в это время больше всего, за их манеру и внешнюю технику, превозносились, и стремились подражать салонным clous (гвоздям). Правда, многих начинающих талантливых художников отталкивала сначала эта погоня за изысканной и модной виртуозностью, ради которой приходилось жертвовать своими излюбленными сюжетами; но желание держаться в Париже наверху брало иногда верх над другими чувствами и побуждениями. Как муха, попавшая в тарелку с медом, прилипает крылышками к краям тарелки, так и эти молодые художника, случалось, сидели годами у ярко освещенного костра, а сами терпели холод и голод. Русские художники — парижские старожилы — с иронией и недоверием смотрели на приезжих русских, зная, с каким трудом удается проскочить в знаменитости и сделаться похожим на француза.
Так, казалось мне, была тогда настроены русские художники в Париже. Впоследствии, когда через несколько лет я снова приехал в Париж, в тамошних русских художественных кругах уже многое изменилось. Я держался в стороне от всех — и стариков, и молодых — и ни с кем, кроме Зильбермана, близко не встречался. Чувствовал я себя в Париже пришельцем, случайным гостем. Все знали, что я приехал в Париж на время, что я лишь временно оставил петербургскую академию, где числился учеником. Никто не спрашивал меня, что я делаю, к чему меня теперь влечет. Однако, произошло нечто, из-за чего на меня обратили внимание. Барон Г. О. Гинцбург объявил маленький конкурс — сделать картину или барельеф на свободную тему по данному им размеру рамки. Участвовали в конкурсе все молодые художники, которых привлекли три небольших денежных премии. Я вылепил тогда свой барельеф — сценку из детской жизни «Масло жмут»: шалуны-мальчики поймали своего товарища и на скамейке жмут его с обеих сторон. Жюри состояло из художников, не принявших участия в конкурсе. Все были удивлены, узнав, что и Боголюбов работает для конкурса. И действительно, скоро среди представленных на конкурсе вещей мы узнали его картину. На ней была изображена Вандомская колонна, с которой летит головой вниз художник, держащий в руках палитру и кисть. Внизу картины было написано: «Такова участь художника, который провалится на сем конкурсе». Все думали, что первую премию присудят Боголюбову, как наиболее почтенному художнику; да и сам Боголюбов, надо думать, был в этом уверен. Жюри, однако, вынесло резолюцию для всех неожиданную: первую премию получил Похитонов, вторую — я (кто получил третию — я сейчас уже не помню). Боголюбов, таким образом, остался за флагом. Курьезно было то, что он обиделся, стал вышучивать конкурс, хотел его расстроить, и, наконец, в сердцах сказал: «Ну, уж вы там — неизвестно еще, получите ли вы свои премии. А я завтра же свою картину предложу купить барону».
Для меня было важно тогда получить эту премию: деньги мне тогда были очень нужны и, кроме того, этот небольшой успех меня приободрил, я почувствовал себя действительно способным к детскому жанру, — ведь после того, как я оставил сюжеты из еврейской жизни, ближе всего и интереснее всего была мне жизнь детей. С тех пор я и начал лепить детей. Чтобы усовершенствоваться в рисунке, я поступил в частную академию бывшего натурщика Колороски, но я рисовал там только несколько недель: мне не понравилось то, как там относились к работе. Отношение к рисованию было не более серьезным, чем отношение к свисту и пению, которыми оно сопровождалось: поверхностное изучение натуры, щегольство и ловкость наброска, а не реальная передача действительности. Руководителя не было никакого, и учиться было не у кого. Я и предпочел из этой академии уйти.
19.
Кроме единственного развлечения в Обществе художников, всю остальную неделю я проводил в одиночестве. Приятель мой Зильберман влюбился в француженку (впоследствии он на ней женился), часто бывал с ней, и я реже стал его видеть. Некоторые мои русские знакомые, с которыми я хотел бы встречаться, жили в другом конце города и, как в Париже водится, никогда дома не бывали. Французский язык я знал плохо, а русских книг у меня не было. Иногда мое одиночество приводило меня в отчаяние; по вечерам меня только раздражал этот веселящийся Париж, он только искушал мою жаждущую жизни натуру. Бродя по улицам, я иногда заходил в какую-нибудь ярко освещенную танцовальную залу. Огромная толпа веселящихся лакеев и кучеров, духота, пыль и смрад меня утомляли. Резкая музыка неистово визжала, и дикие танцы грубого, непристойного пошиба возбуждали во мне отвращение. Танцевали почти на одном месте, до того бывало тесно. Как непохожи были эти танцы на те, которые я видел на площади St.-Jean de Luz! Там молодые работники и порядочные девушки из народа веселились от души, здесь же забавлялись преимущественно пожилые развратники, насмотревшиеся всякой мерзости у своих развращенных господ.
Иногда я гулял так долго, что поздно вечером возвращался пешком домой в полном изнеможении. С загородной прогулки, где всё после шумного Парижа казалось мне мертвым и тоскливым, я, усталый и разбитый, входил в свою крошечную комнату, но запах сырости и старья раздражал там меня. Долго, бывало, не мог я заснуть: всё мерещились бульвары, танцовальные залы, шум и веселье. И пытался во время бессонницы писать письма родным и знакомым, но эти письма выражали такое отчаяние, такую безнадежность, что я их не отсылал по назначению.
Мальчик, опускающийся в воду.
Скульптура И. Гинцбурга. 1889. Русский Музей.
Скоро одно обстоятельство вывело меня из этого состояния. Раз в мастерскую Антокольского пришла молодая француженка, бывшая натурщица, красивая и на вид очень скромная. «А, мадемуазель Амели!» обрадовался Антокольский и протянул ей руку. «Bonjour, monsieur!» кокетливым, симпатичным голосом сказала гостья. «Mais vous êtes décoré! Comme c'est beau d'être décoré!» говорит француженка, глядя на красную ленточку, которая красовалась в петличке Антокольского. «Вот, рекомендую тебе», обратился ко мне Антокольский: «премилая, хорошая девушка. Ты вылепи ее бюст, она денег не возьмет. Бюст ты ей подаришь, а тебе будет хорошее упражнение», — «Кто она такая?» поспешил я спросить Зильбермана, стоявшего за перегородкой. «Прехорошенькая девушка», подтвердил мой друг: «Она, бедняжка, в прошлом году была влюблена в художника-шведа, который жил над нами. Он уехал, и она долго горевала. Вот целый год не показывалась».
Я стал лепить ее бюст и скоро увлекся своей натурщицей. После сеансов я провожал ее домой, а иногда по вечерам ждал ее на улице, чтобы проводить ее в школу, где она училась рисовать. Бюст я удачно кончил. И вот, в один прекрасный вечер, я отнес Амели в подарок отлитый из гипса бюст. Амели жила в предместьи Нэйи, у самой Сены. Родителей у нее не было, и она жила у бабушки и дедушки, глубоких стариков, консьержей при старом необитаемом отеле; старики занимали флигель, а внучка жила в мезонине отеля. Старики любезно меня приняли, благодарили за подарок, угостили меня кофе, расспрашивали, откуда я, и скоро объявили, что им пора спать. Это было в 9 часов вечера; ни мне, ни Амели не хотелось расставаться. И вот француженка придумала следующее: под предлогом показать мне что- то в своей комнате, она провела меня к себе, а сама, уложив бабушку и дедушку спать, объявила им, что пойдет проводить меня до ворот; но, выйдя из комнаты, стукнув наружною дверью и громко пожелав мне спокойной ночи, она вернулась ко мне в свою комнату, и мы проболтали несколько часов наедине.
С тех пор я стал часто бывать в этом бедном семействе. Свои безрадостные прогулки по Парижу я оставил, и вместо того, чтобы бродить по освещенным улицам, я стал удаляться на окраины города, в глушь и тишину. Особенную отраду доставляли мне вечерние прогулки, когда я возвращался один домой по тихим, грустным аллеям, мимо запущенных садов, длинных заборов и кладбища. Поэтичными казались мне в лунную ночь, покрытые снегом, высокие деревья, аллеи и освещенная готическая англиканская церковь. Иногда из церкви доносилось пение; я входил и с удовольствием слушал, как на клиросе поют молодые англичанки (в это время в других частях города раздавались веселые песни и происходили оргии). Благодаря знакомству с Амели, я хорошо стал понимать по-французски. Мы вместе с ней читали книги и газеты, и я стал интересоваться парижскими новостями и политикой. Но в то же время я стал иногда манкировать работой в мастерской, а иногда даже не приходил обедать к Антокольскому, от внимания которого не ускользнуло мое увлечение.
Зима близилась к концу, год моего отпуска из академии кончался; мне следовало серьезно подумать о своем будущем. Знакомые советовали мне остаться к Париже и там поступить в академию. Антокольский обещал даже устроить так, чтобы стипендия, которую я получал в Петербурге, переводилась мне в Париж. Но я чувствовал себя неспособным учиться в этой обстановке, без моих добрых знакомых и родных в России. Кроме того, мне тогда казалось, что парижская жизнь мало могла дать материала для творчества художника-иностранца. Правда, техника у французов стояла на такой высоте, что у них было чему поучиться, но я уже тогда не мог отделить формы от содержания. Впрочем, главное, что меня побудило уехать, это желание повидаться со знакомыми и с товарищами по академии, где в родной обстановке мы работали так дружно и с таким особенным увлечением. Грустно мне было все-таки расставаться с Парижем. Зильберману же и Амели я дал слово скоро вернуться. Счастливый, вернулся я в Петербург и с рвением принялся за работу. Я работал больше, чем прежде, и сомнения, которые раньше, до отъезда из Петербурга, меня мучили, теперь исчезли.
СОДЕРЖАНИЕ.
Предисловие. 1—5
I.
Как я стал скульптором. 9
II.
В Ясной Поляне.. 87
Радость жизни.. 99
Стасов у Л. Н. Толстого..106
III.
Смерть Антокольского. 115
В. В. Стасов. 126
В. А. Серов. 135
Паоло Трубецкой..140
В. В. Верещагин. 154
У Кропоткина.. 163
Примеры страниц
Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 36,9 МБ)
25 июня 2018, 15:52
0 комментариев
|
|






Комментарии
Добавить комментарий